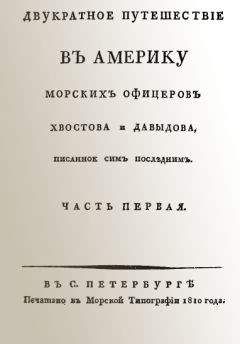большой транспорт с прикрытием, идущий от Гжати. Мы немедленно двинулись к
нему навстречу по обеим сторонам дороги и, вышедши на пригорок, увидели
весь караван сей, - увидели и ударили. Наши ворвались в середину обоза, и в
короткое время семьдесят фур, двести двадцать пять рядовых и шесть офицеров
попались к нам в руки. В прибавок к сему мы отбили шестьдесят шесть человек
наших пленных и двух кирасирских офицеров раненых: Соковнина и Шатилова.
Сии последние сидели в закрытой фуре и, услыша выстрелы вокруг себя,
приподняли крышу и дали знать казакам, что они русские офицеры. Кто не
выручал своих пленных из-под ига неприятеля, тот не видал и не чувствовал
истинной радости!
Двенадцатого партия отошла в Дубраву. Едва мы расположились на ночлег, как
увидели едущих к нам коляску и телегу. Это был юхновский дворянский
предводитель Храповицкий и обратный курьер мой из главной квартиры. Пакетов
была куча: один из них был с печатью светлейшего на мое имя. В сем пакете
находился рескрипт от него ко мне с рескриптом Храповицкому и особый пакет
с извещением о разбитии неприятельского авангарда 6-го числа. Хотя
некоторые бумаги были от 10-го, в оных ничего не было положительного об
отступлении французской армии, выступившей из Москвы уже 7-го числа. При
этих пакетах было много писем от старых и новых приятелей и друзей, которые
осыпали меня такими похвалами, что я едва не возмечтал быть вторым
Спартакием...
К умалению обратили меня проклятый генерал Эверс, посланный из Вязьмы к
Юхнову, и непростительная собственная моя оплошность. Вот как дело было:
13-го мы пришли к Кикино, где праздновали награждения, привезенные
курьером, и слишком рано вздумали отдыхать на недозрелых лаврах. Пикеты
следовали примеру партии, а разъезды доезжали лишь до бочки вина,
выставленной посредине деревни.
Четырнадцатого мы отправили обратно в Юхнов дворянского предводителя и
перешли в село Лосмино в том же расположении духа и разума, как и накануне;
но едва успели мы сделать привал, как вчетверо сильнее нас неприятель
подошел в виду деревни. Будь он отважнее, поражение наше было бы неизбежно.
Но вместо того чтобы авангарду его ударить с криком в деревню, где все мы
были в разброде, неприятель открыл по нас огонь из орудий и стал занимать
позицию! Первое подняло нас на ноги, а второе - исправило следствие
постыдного моего усыпления, ибо хотя я видел две густые колонны, но, уверен
будучи, что в таковых обстоятельствах наглость полезнее нерешимости,
называемой трусами благоразумием, я пошел в бой без оглядки. Когда же
пленные, взятые передовыми наездниками, удостоверили нас, что отряд сей не
что иное, как сволочь всякого рода [37], тогда казаки мои так ободрились,
что преступили меру нужной отважности и едва не причинили более вреда,
нежели пользы.
Авангард мой ударил на авангард неприятеля и опрокинул его, но, быв в свою
очередь опрокинут бросившимися вперед неприятельскими двумя эскадронами,
он, вместо того чтобы уходить вроссыпь на один из флангов подвигавшейся
вперед моей партии (как всегда у меня водилось), перемешался с неприятелем
и скакал в расстройстве прямо на партию: если б я не принял круто вправо,
то вся сия толпа вторглась бы в средину ее и замешала бы ее без сомнения. К
счастию, означенный поворот партии, вовремя исполненный, поправил дело, ибо
неприятель, гнавшийся за авангардом, был принят одною частию партии во
фланг и в свою очередь обращен вспять. Тогда воспаленные и успехом, и
вином, и надеждою на добычу, едва все полки мои не бросились в
преследование. Нужно было все старание, всю деятельность моих товарищей -
Храповицкого, Чеченского, Бедряги, Бекетова, Макарова и казацких офицеров,
- чтобы разом обуздать порыв их и осадить на месте.
Видя, что неприятель не только не смутился отражением своего авангарда, но,
получив новое подкрепление со стороны Вязьмы, двинулся вперед с решимостию,
я решился не противиться его стремлению и отступить тем порядком или, лучше
сказать, тем беспорядком, который я испробовал в Андреянах. Вследствие чего
я объявил рассыпное отступление и назначил сборным местом село Красное, за
рекою Угрою, известное уже казакам моим. По данному сигналу все рассыпалось
и исчезло! Одна сотня, оставленная с хорунжиим Александровым для наблюдения
за неприятелем, продолжала перестреливаться я отступать на Ермаки к
Знаменскому, дабы заманить неприятеля в другую сторону той, куда партия
предприняла свое направление. На рассвете все уже были в Красном, кроме
сотни Александрова, которая, соединясь в Ермаках с моей пехотой, отступила
с нею вместе в Знаменское, занимаемое поголовным ополчением.
Шестнадцатого в ночь я получил известие от начальника сего ополчения
капитана Бельского о том, что 16-го, поутру, неприятель, подошедши к
последнему селу, намеревался его занять, но, увидя в нем много пехоты,
выстрелил несколько раз из орудий и отступил в Ермаки. Тогда только я узнал
от пленных, приведенных ко мне со стороны сел Козельска и Крутого, что
неприятельская армия выступила из Москвы, но, по какому направлению и с
каким предположением, мне было неизвестно.
Семнадцатого я выступил на Ермаки, в том намерении, чтобы, продолжая поиски
к стороне Вязьмы, всегда находиться на дороге к Юхнову, откуда я получал
все известия из армии, ныне, по выступлении неприятеля из Москвы,
сделавшиеся столь для меня необходимыми. Я рассчитывал так, что, ежели
армия наша возьмет поверхность над неприятельской армией, то последняя не
минует того пространства земли, на коей я находился; и что, будучи впереди
ее, я всегда буду в состоянии, сколько возможно, преграждать ее
отступлению. Если же армия наша потерпит поражение, то непременно отступит
к Калуге, вследствие чего и я отступлю к Юхнову или к Серпейску.
Перейдя через Угру, авангард мой дал мне знать, что, будучи атакован
неприятелем под Ермаками, он с поспешностию отступает и что неприятель в
больших силах за ним следует с чрезмерною наглостию. Я рассудил послать к
нему на подмогу одну сотню, а всю партию переправить обратно через Угру.
Едва успел я перебраться на левый берег оной, как увидел вдали дым