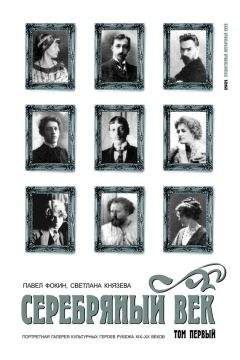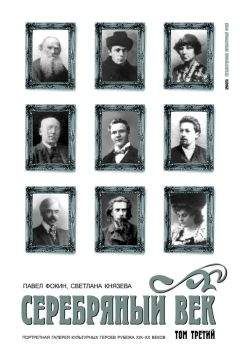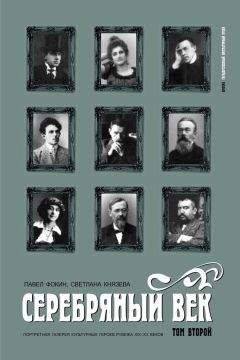Тут, на кровати, С. Н. и проводил бо́льшую часть времени, читал, а иногда писал, сидя на ней, беря книги из большой стопки на стуле, стоящем рядом. Писал он, со свойственной ему стремительностью и легкостью, сразу множество работ. Отчетливо помню, что одновременно писались, или дописывались, или исправлялись рассказы, стихи, работа о древней иконе, о Лермонтове, о церковном соборе, путевые записки о поездке в Олонецкий край, какие-то заметки о Розанове и Леонтьеве и что-то еще. Не знаю, писал ли он тогда о Гаршине и Лескове, но разговор об этом был.
На верхнем этаже книжной башни у кровати лежал „Свет Невечерний“ Булгакова, а из других этажей можно было вытащить „Размышление о Гете“ Э. Метнера, „По звездам“ В. Иванова, „Из книги невидимой“ А. Добролюбова, „Русский Архив“ Бартенева, два тома Ив. Киреевского, „Богословский вестник“, романы Клода Фарера, „Кипарисовый ларец“ Иннокентия Анненского, какие-то книги о Гоголе, журналы „Весы“ и „Аполлон“ и даже издание мистических, темных рисунков Рувейра.
…Он жил как монах, и то, что раза два было так, что перед нами на столе стояла бутылка красного кислого вина и он мне говорил стихи Брюсова, не ослабляло, а еще подчеркивало это восприятие жизни. Это было вольное монашество в миру, с оставлением в келье всего великого, хотя бы и темного волнения мира.
У него была одна любимая тоскующая мазурка Шопена, он часто напевал мне ее начало, и до сих пор – через сорок лет, – когда я ее слышу, я точно вновь у него в Обыденском переулке.
Помню, как после долгого и восторженного рассказа об Оптиной, где он только что был, он стал говорить об опере „Русалка“. „Это истинное чудо!“ – сказал он. Или вдруг после молчания, когда он, лежа на кровати, полузакрыв глаза, казалось, был весь в ином духовном мире, он начинал читать мне отрывки из его любимой вещи Клода Фарера „В чаду опиума“. Это было, или так ему (и мне) казалось, какое-то соучастие в тоске этого зла по добру. Его рассказ „Жалостник“, где им дана вольная интерпретация слов св. Исаака Сирина о молитве за демонов, был уже напечатан в „Русской мысли“. Образ тоскующего лермонтовского Демона был тогда его любимый поэтический образ. Но, впрочем, может быть, тут было и какое-то особое русское и тоже тоскующее любопытство.
…У С. Н. была одна черта: казалось, что он находится в каком-то плену своего собственного большого и стремительного таланта. Острота восприятия не уравновешивалась в нем молчанием внутреннего созревания, и он спешил говорить и писать, убеждать и доказывать.
Кроме того, наряду со всей остротой его познания у него была какая-то точно мечтательность, нереалистичность. То, что надо было с великим, терпеливым трудом созидать в своем сердце – святыню Невидимой Церкви, – он часто пытался поспешно найти или в себе самом, еще не созревшем, или в окружающей его религиозной действительности. Его рассказы о поездке в Оптину были полны такого дифирамба, что иногда невольно им не вполне верилось: не так-то легко Китежу воплотиться даже в Оптиной…Очевидно, в нем был какой-то мистический гиперболизм, который давал неверный тон исполнения даже и совершенно верной музыкальной вещи. Если вместо слова „жизнь“ говорить „житие“, то от этого жизнь еще житием не станет. Этот неверный тон присущ многим, и некоторые замечают его в религиозной живописи Нестерова, с которым, кстати сказать, С. Н. был очень близок. Вот почему, когда он молчал, не апологетировал, не убеждал, а только изредка, „в тихий час“, в минуту сердечного письма, в одинокой молитве говорил переболевшие слова или только смотрел из-под очков своим внимательным, теплым взглядом, – тогда была в нем особенная власть, и именно тогда я любил его больше всего. В своей тишине он был из тех редких людей, которые обладают даром открывать людям глаза на солнечные блики на обоях» (С. Фудель. Воспоминания).
см. ОСИП ДЫМОВ
11(23).4.1889 – 30.8.1963
Актриса и художница, одна из жен А. Н. Толстого (1907–1914).
«С тонким профилем, глаза миндалинами, смуглая, рот некрасивый, зубы скверные в открытых, красных деснах (она это, конечно, знает, потому что улыбается с большой осторожностью). Волосы у нее темно-каштановые, гладко, по моде, обматывают всю голову и кончики ушей, как парик. Одета тоже „стильно“. Ярко-красный неуклюжий балахон с золотым кружевным воротником. В ушах длинные, хрустальные серьги. Руки, обнаженные до локтя, – красивые и маленькие…У нее очень печальный взгляд, и когда она молчит, то вокруг рта вырезывается горькая, старческая складка. Ей можно дать лет 35–37…Она держится все время настороже, говорит „значительно“, обдуманно… почему-то запнулась и даже сконфузилась, когда ей по течению беседы пришлось сказать, что она родилась в „Витебске“… Может быть, ей неприятно, что она еврейка? Говорит она без акцента, хотя с какой-то примесью» (Р. Хин-Гольдовская. Из дневника 1913).
ДЬЯКОНОВА Елизавета Александровна
15(27).8.1874 – 29.7 (11.8).1902
Автор «Дневника» и публицистических статей. Сочинения: «Дневник Е. Дьяконовой (1886–1895). Литературные этюды. Статьи» (т. 1, СПб., 1905), «На Высших женских курсах (1895–1899)» (СПб., 1904), «Дневник русской женщины (Париж, 1900–1902)» (СПб., 1905).
«Дьяконова? („Дневник“). Да это чистейшая за XIX в. русская девушка. Между тем она нисколько не осуждает, в душе своей не осуждает француженку, рассказывающую ей, что живет потихоньку с одним, с другим по очереди… Тоже описывает „бал художников“, где под конец все были голые и, кажется, совершались невозможные действия открыто. Она как знающий ребенок прошла по бане с голыми стариками и старухами, едва давая заметить в глазах и взоре: „это мне не надо“, „это не мое“.
Дневник Дьяконовой есть высоковоспитательная книга. Я его перечитывал несколько раз и всегда (где открывалось) читал с неустанным наслаждением. И главный мотив, и точка наслаждения было созерцать столь чистую девушку (автор).
Этот „Дневник“ есть одна из самых лучших русских книг за весь XIX век. Превосходство его перед такими пошлостями, как „Горе от ума“, – неизмеримо. Скажу более: „Дневник Дьяконовой“, написанный почти в наше время, – почти или минутами примиряет меня с „нашим временем“, которое вообще и постоянно я так глубоко ненавижу. Оно мне представляется хамством, лакейством. Но этот чистый „Дневник“, и столь поразительно умный, – показывает, что и в гадкое „наше время“ русская душа не умерла, – не умерла иногда, не умерла во всех, – а горит, как бриллиант в навозе.