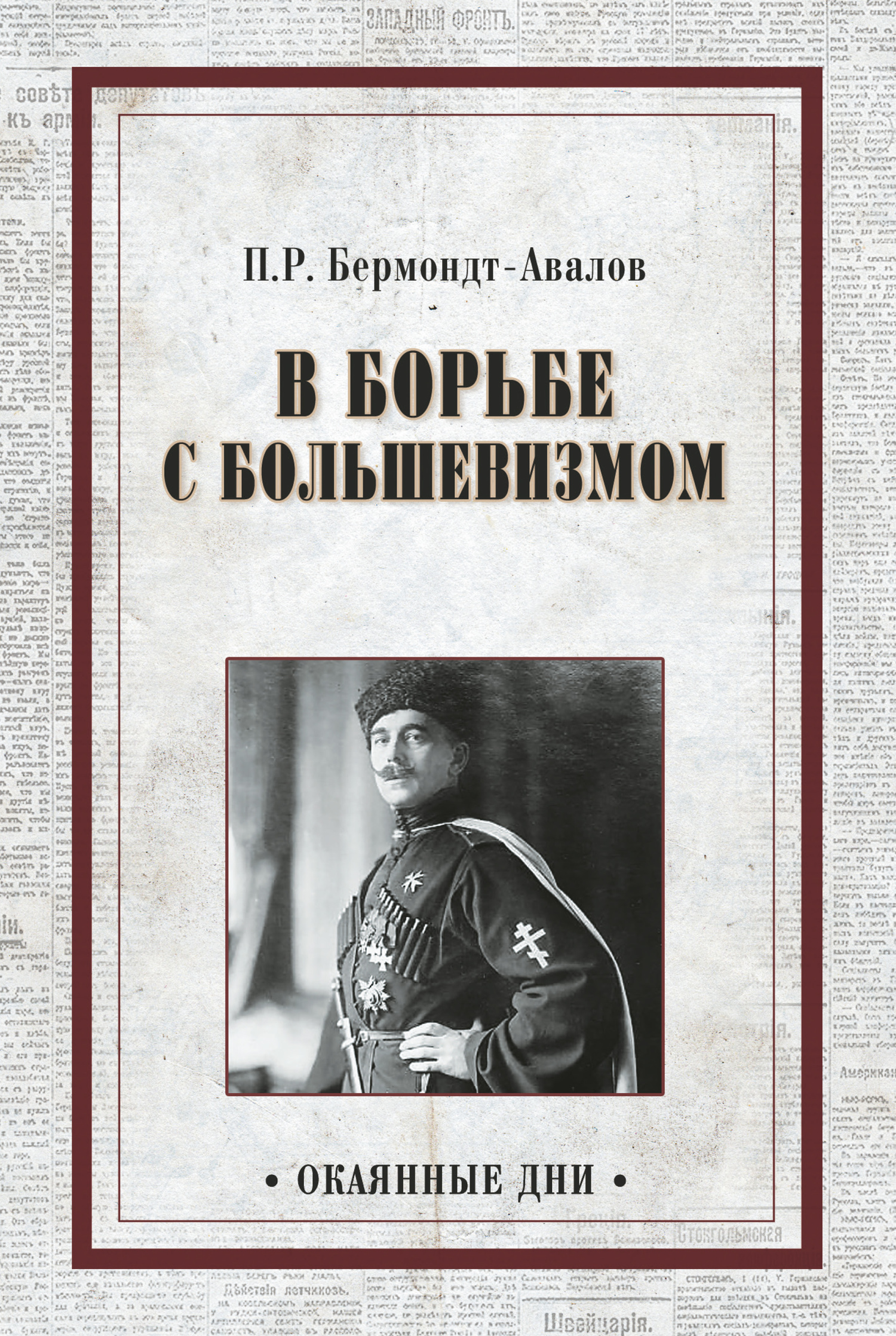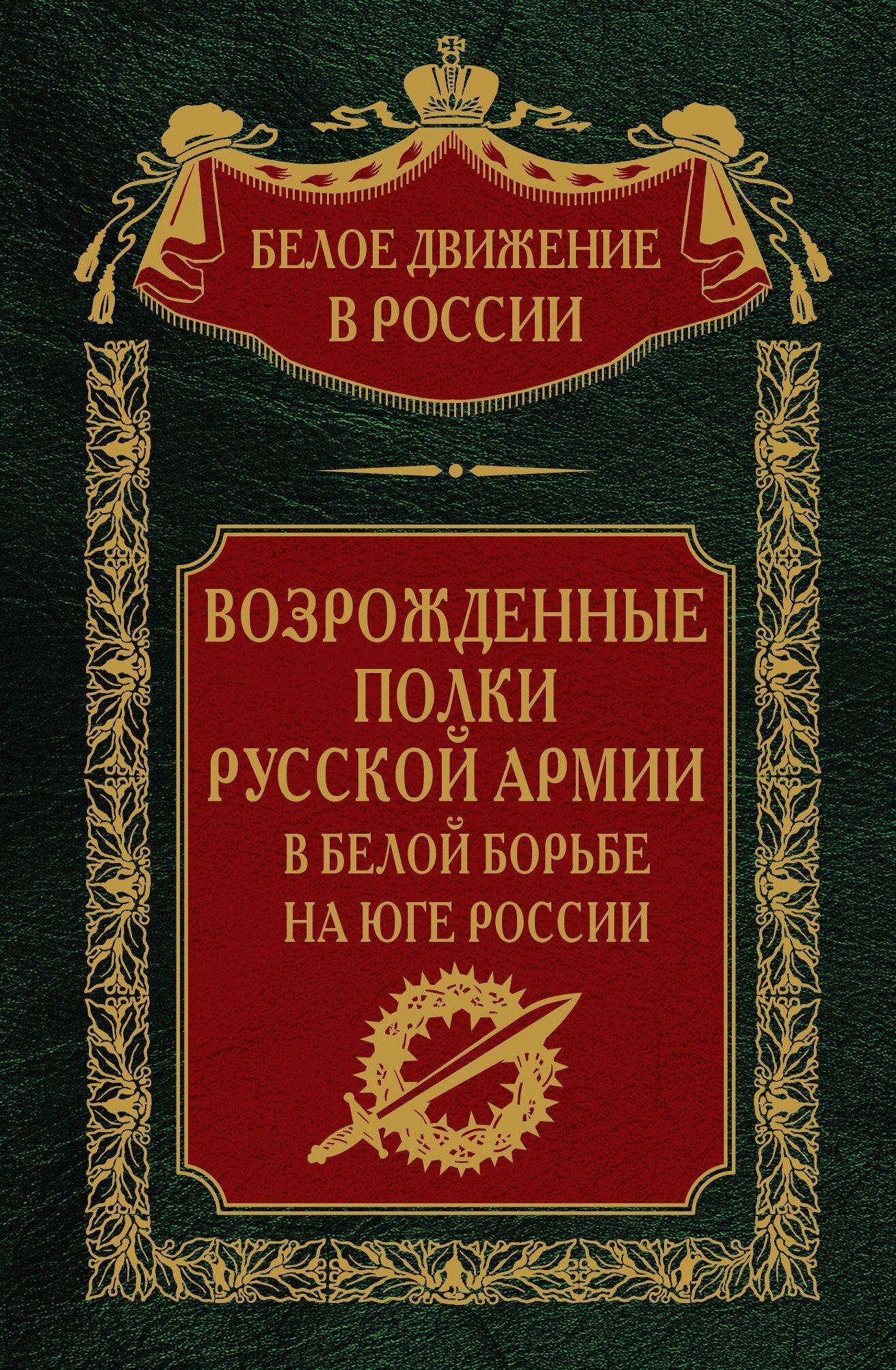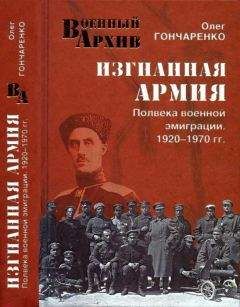воскликнул кто-то.
Действительно, вдоль поезда, направляясь ко мне, шел митрополит Дионисий в сопровождении двоих или троих священников. Остальное православное духовенство предпочло остаться в городе. Я подошел к митрополиту, принял его благословение и, по окончании посадки, простился с ним в вагоне.
Это было нашей последней встречей, завершившей долгие драматические отношения. До 1939 года я был упорным, непримиримым и – должен сознаться – не всегда справедливым противником его политики. Она казалась мне угодливой, уступавшей всем требованиям польского правительства и отрывавшей православие в Польше от его русских корней. Не связанный участием в церковной жизни отвергнутой мною польской автокефалии, я недостаточно считался с трудным положением митрополита, созданным крушением России и ее порабощением коммунистами.
Первый удар этой непримиримости был нанесен первоиерархом русской зарубежной церкви, митрополитом Антонием, откликнувшимся на приглашение митрополита Дионисия побывать в Польше и не приехавшим туда из Югославии только потому, что польская печать резко этому воспротивилась. Встреча двух иерархов состоялась, однако, в Бухаресте и была как бы признанием польской автокефалии русской заграничной церковью.
Вторым ударом стала – в 1939 году – неудачная попытка упразднения автокефалии и грубое вмешательство немцев в этот церковный спор, стоившее жизни двум ближайшим сотрудникам митрополита. Его временное отстранение от управления православной церковью в краковском генерал-губернаторстве завершилось неожиданным возвращением к этому управлению с ведома и согласия генерал-губернатора Франка. Автокефалия – в территориально сокращенном объеме – была восстановлена. Продолжение борьбы с нею было бы – в обстановке войны и оккупации – бесцельным. Митрополит Дионисий протянул Русскому Комитету руку. Я ее принял.
Вечером 26 июля я мог назвать начало эвакуации русских варшавян в Словакию законченным. Каждый пожелавший ею воспользоваться смог это сделать. В моей квартире на Вейской остались Н.С. Кунцевич и четверо служащих канцелярии. Неожиданно к ним прибавился еще один человек.
– Вас, – сказали мне, – хочет увидеть оборванный старик. Он утверждает, что знает вас с детства. Зовут его Михаилом Ивановичем Зориным…
Неужели он, подумал я, тот Миша, которому я, вероятно, обязан жизнью? Но какой же он старик? Ведь если это он, ему должно быть лет сорок восемь, не больше… Однако вошедший в мой кабинет посетитель действительно выглядел гораздо старше. На нем был ветхий, обтрепанный немецкий мундир со срезанными погонами, серые брюки, разлезающаяся обувь. Долго не стриженные волосы были седыми на висках. Лицо заросло щетиной. Только глаза были молоды.
– Вы меня не узнаете? – спросил он негромко. Узнать я его не мог – помнил белобрысого курносого паренька – но как это ему сказать? Неверно истолковав мое молчание, он прибавил: – Помните двадцать первый год? Я – Миша Зорин…
Нет, я не забыл его. Существуют люди и события, которые забыть нельзя. Не только упомянутый им год, но и далекое детство вошли ко мне с этим грязным, несчастным, рано состарившимся оборванцем. Прежде чем расспросить, нужно было о нем позаботиться.
Часа через два вымытый, побритый и переодетый М.И. Зорин рассказал, как он оказался в Варшаве и что привело его на Вейскую. Он был сыном горничной, прослужившей много лет в доме моего деда А.Т. Тимановского, издателя «Варшавского дневника», а затем – в семье моих родителей. Братья и я почтительно называли ее Марией Григорьевной. Миша был участником наших детских игр. Он учился в школе расквартированного в Варшаве лейб-гвардии Литовского полка и носил его форму, которой – признаться – я очень завидовал. В 1914 году он ушел с полком на фронт и был в Восточной Пруссии ранен в руку. После революции связь с его матерью и с ним оборвалась.
Летом 1921 года меня в захваченной большевиками Одессе нашла приехавшая из Киева дама, родственница знаменитой артистки Веры Комиссаржевской. Она привезла состоявшую из нескольких слов записку. Рукою моей матери, на клочке бумаги, были написаны фамилия и киевский адрес Марии Григорьевны. С запиской я получил знакомое кольцо. Темный сапфир и сверкающий бриллиант в платиновой оправе были бесспорным доказательством того, что приезжая мою мать повидала.
В сентябре мне удалось пробраться в Киев, но я не застал там ни матери, ни брата. Мария Григорьевна радушно приняла меня и сообщила, что ее сын дважды побывал с ними на границе и, поочередно, перевел в Польшу. 27 сентября он сделал это – для меня – в третий раз. Трижды ему помог бывший камердинер деда, владевший на советской стороне хутором верстах в двух от отошедшей по Рижскому договору в Польше волынской деревни Майкове. Оттуда мы на следующий день попали в пограничный город Острог, а затем – в польский репатриационный лагерь в Ровно. Миша колебался, не стать ли и ему эмигрантом, но привязанность к семье победила. Он вернулся в Киев. На прощание я подарил ему материнское кольцо.
С тех пор он прожил двадцать лет под советским гнетом. Война показалась ему освобождением, но – как и множество других русских людей – его обманула. В 1943 году начался трудный путь на Запад. Знакомую с детства Варшаву он увидел тогда, когда передовые советские части достигли Вислы. Кто-то на улице, узнав в нем беженца, посоветовал:
– Сходите в Русский Комитет… Председателем там Войцеховский…
Настала моя очередь отплатить старый долг.
27 июля я проснулся в опустевшей квартире. В канцелярии молчал телефон, не стучали пишущие машинки. Не было ни души в приемной. Необыкновенно тихо было и на улице. Варшава казалась вымершей. Предостережение польского друга было, очевидно, не напрасным. Варшавяне что-то знали и к чему-то готовились. Н.С. Кунцевич и я нашли отсрочку отъезда опасной и назначили его на следующий день.
Утром я обошел комнаты, прощаясь с ними. Вещей я не жалел. Семейные иконы и часть моих книг были отосланы в Равенсбург. Остальное было бы в предстоящей трудной жизни лишним грузом. Я предвидел испытания, уготованные русским эмигрантам, оставшимся в годы военной бури непримиримыми противниками коммунизма.
Днем захотелось в последний раз взглянуть на польскую столицу. Секретарь вызвался разделить со мной прощальную прогулку. Город поразил нас жуткой тишиной, в которой шаги отзывались гулким эхом. Редкие прохожие жались к стенам, словно чего-то опасаясь. Мы дошли до площади, которую варшавяне называли, по старой памяти, Варецкой, хотя она давно была переименована в честь Наполеона. Там, у здания почтамта, всегда переливался поток пешеходов, автомобилей и извозчичьих пролеток. На этот раз мы не увидели никого.
Дальше, на Мазовецкой улице, нас удивил зазвучавший вблизи струнный оркестр. Он раздавался из садика Филиппса – летнего кафе, названного так потому, что в доме, отделявшем его от улицы, помещалась до войны известная голландская