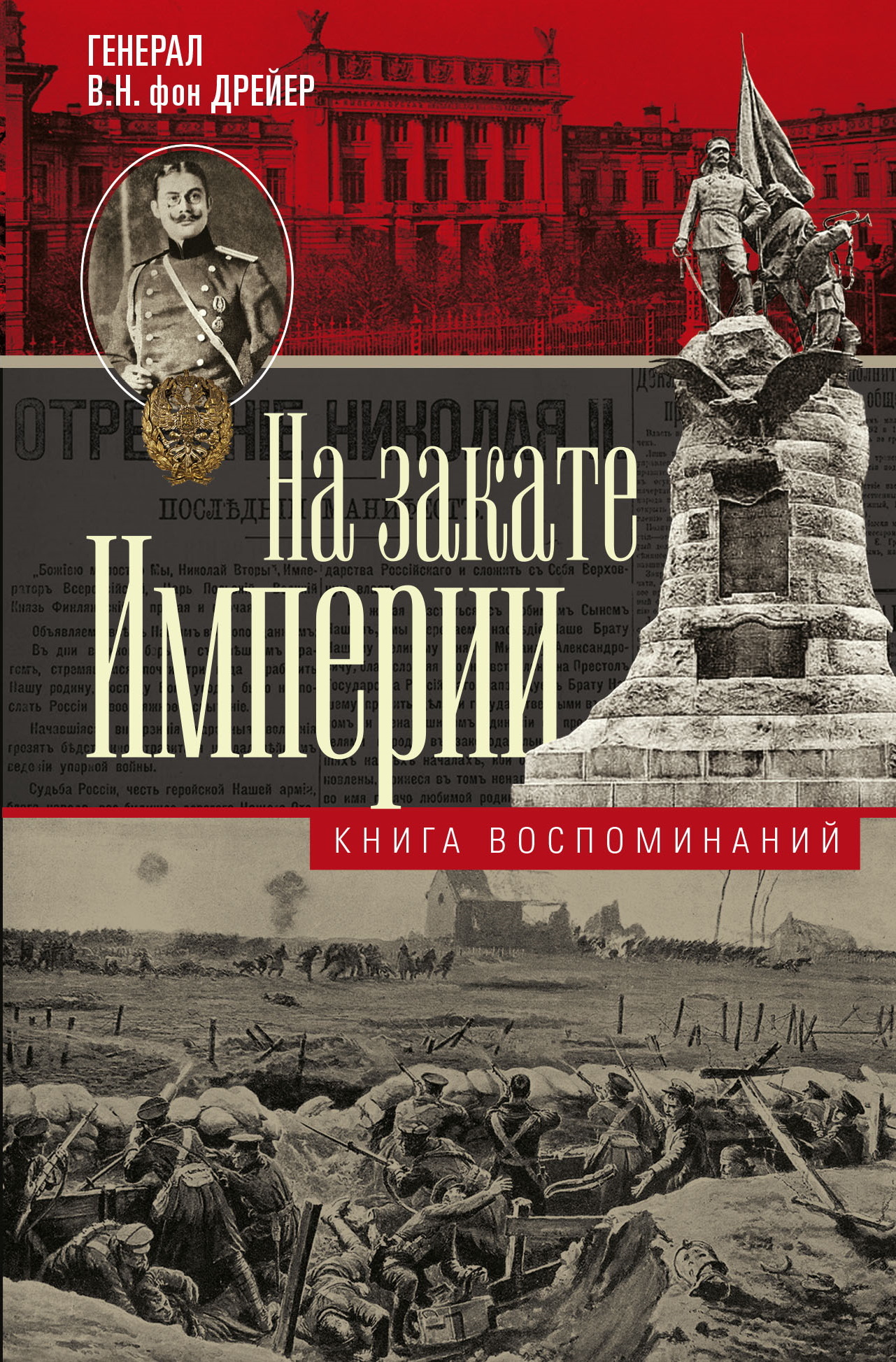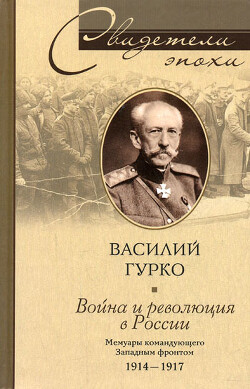эскадрона. После чего на полковом плацу в вырытую яму бросили его труп, яму засыпали и весь полк прошел церемониальным маршем над его могилой.* * *
В течение моей четырехлетней службы в штабе Ренненкампфа во главе этого штаба стояли сначала барон Икскуль фон Гильденбанд, а затем Владимир Александрович Чагин.
Худой, высокий, породистый, всегда спокойный, полунемец-полурусский, барон Икскуль терпеть не мог военного дела, в штаб заходил часа на полтора около полудня подписать бумаги, а затем шел в «Георгиевскую» гостиницу завтракать. Это был наиболее посещаемый отель города, в нем останавливались все богатые польские и литовские помещики, он славился своим прекрасным, очень недорогим рестораном, а главное – квартетом талантливых музыкантов, окончивших консерваторию. В зависимости от присутствующей публики квартет исполнял или очень серьезные вещи, до симфоний включительно, или развлекал кафешантанной программой.
Барон почти всегда находил в «Георгиевской» приятелей-помещиков – у него самого было прекрасное имение возле Свенцян – и засиживался с ними часами, потягивая свой излюбленный Niersteiner [50].
Вечера он неизменно проводил в Дворянском клубе, где ужинал, играл в карты и продолжал пить свое немецкое вино. Он долго не мог выдержать характера своего беспокойного начальника, и, хотя Ренненкампф никогда его не тревожил, не заставлял носиться с ним по смотрам и маневрам, барон вскоре ушел в отставку и поселился в своем имении.
* * *
На смену явился Владимир Александрович Чагин, только что откомандовавший пехотным полком в том же Вильно.
Забавный человек был этот Чагин. Точно в девять часов открывалась дверь, и в штаб входил высокий, здоровенный, с круглым лицом, усыпанным веснушками, с неизменной дешевой сигарой во рту, начальник штаба.
– Здорово, писаря!
Он обходил отделения, любезно пожимал руки офицерам, шел в свой кабинет и принимал доклады по строевой, а затем по хозяйственной части.
К двенадцати часам он неизменно подходил к телефону, крутил ручку и нежным голосом, совершенно не подходящим к его грузной фигуре, произносил:
– Суса, это ты? Я не слышу, это ты? А что к обеду?
Поговорив со своей женой Сусанной Петровной, Чагин, довольный, возвращался в кабинет, где дым стоял столбом от его сигар. Не зная, чем заняться (доклады были приняты), он что-то просматривал, а к часу дня входил радостный к нам в отделение, прощался и произносил:
– С миром изыдем.
При посещении штаба командиром корпуса Владимир Александрович принимал необыкновенно деловой вид и всей своей фигурой показывал, что завален работой. Особенно он суетился на маневрах, хотя и там работы у него было немного: директивы шли от Ренненкампфа, диспозиции писал штаб-офицер Радус-Зенкович, он же делал доклады непосредственно командиру корпуса. Чагин только присутствовал и вставлял свои замечания.
Как-то во время перерыва на маневрах мы сидели у себя в «халупе» и тянули бенедиктин, запивая его кофе. Я без церемоний пошел к Ренненкампфу и пригласил его. Через полчаса входит Чагин, останавливается на пороге в недоумении, от приглашения отказывается и уходит.
Затем вызывает меня к себе и мягко – он никогда не повышал голоса – выговаривает, что на маневрах пить не полагается, а тем более спаивать командира корпуса, и торжественно заканчивает:
– Рюмка белого вина… и светлая голова.
Эта сакраментальная фраза сделалась настолько популярной, что все уже не могли без улыбки отделить Чагина от рюмки белого вина и светлой головы. Карикатура, нарисованная с необыкновенным талантом капитаном Гончаренко, позже генералом, а в эмиграции – писателем, работавшим под псевдонимом Галич, на Чагина с рюмкой вина и светлой головой, ходила в Вильно по рукам.
Над добрым, беззлобным Чагиным немало подтрунивали.
Супруга милейшего Владимира Александровича, довольно интересная дама, хорошо сложенная, не глупая, слегка косящая, что не отнимало у нее известного шарма, Сусанна Петровна немного флиртовала, но делала это вполне прилично; по-видимому, оба были довольны друг другом. Она получала цветы от земского начальника, грузина Мачутадзе, красивого, наглого брюнета; бывала в кафешантане у Шумана с губернатором Любимовым, где ела устрицы; часто прогуливалась по Георгиевскому проспекту с директором польского банка. Этот длинноносый поляк помогал Сусанне Петровне подрабатывать на бирже и был наиболее усердным ее поклонником.
Встречая мадам Чагину на улице, в офицерском собрании или у ее приятельницы княгини Щербатовой, можно было заранее сказать, что она заговорит о Ялте:
– Ах, я скоро еду в Ялту. На бархатный сезон я непременно буду в Ялте проходить виноградное лечение.
И ездила, действительно, почти каждый год.
* * *
Княгиня Щербатова появилась в Вильно в конце 1908 года. Старый князь, широкий русский барин, вдовец, бездетный, командовал корпусом в Гродно. Выйдя в отставку, он прожил недолго, но перед смертью успел жениться на своей экономке, оставив ей деньги, богатую обстановку и громадное имение в Пинском уезде, с болотами и лесами.
Вновь испеченная княгиня быстро сообразила, что литовская столица более интересна, чем провинциальный незначительный Гродно, переехала в Вильно, сняла большую квартиру и повела очень светский образ жизни. Это была неглупая женщина, полька, большая, полновесная, с пышной грудью и поверхностным образованием.
Все эти подробности, однако, были вскоре забыты благодаря ее гостеприимству, хорошему повару и старым винам из погребов покойного князя.
Большие обеды на 10–12 персон чередовались с малыми интимными приемами – «парти-карре», где бывали только свои и непременно Чагина с одним из своих поклонников. Дамы общества, за исключением Сусанны Петровны, княгиню игнорировали, считая кухаркой и парвеню. Мужчины не обращали на такие тонкости внимания и с удовольствием у нее ели, пили и веселились.
Виленский губернатор и сам командир корпуса, будучи почетными гостями на парадных обедах, не скупились на комплименты и не стеснялись рассказывать веселенькие анекдоты.
Людмила Ивановна, губернаторша, уже будучи в Париже, в эмиграции, вспоминала, смеясь, что ее муж, собираясь на «малый прием», неизменно говорил: «Ну, я иду к моим девочкам».
* * *
Виленский губернатор Дмитрий Николаевич Любимов сделал блестящую карьеру. Получив звание сенатора, в большую войну он уже занимал пост помощника варшавского генерал-губернатора.
Это была колоритная фигура на фоне виленского общества. Неизменно веселый, жизнерадостный, он пользовался общими симпатиями не только среди своих соотечественников, но в польских и еврейских кругах. Жена его Людмила Ивановна была ему отличной парой и, занимаясь благотворительными делами, донесла свою деятельность до берегов Сены, помогая обнищавшим эмигрантам в Париже дешевыми обедами и почти даровым ночлегом.
Их ежегодные балы в губернаторском доме в Вильно были одним из самых блестящих событий сезона. В праздники визитеры толпились в салоне Людмилы Ивановны, и он весь утопал в цветах. Держала она себя довольно просто, болтала без умолку, но ни на минуту не забывала, что она губернаторша.
Дмитрий Николаевич не стеснялся ухаживать за дамами, развлекал Чагину, отдыхал в обществе актрисы Саранчевой.
Саранчева, красивая, молодая, покорившая сердце первого чиновника губернии, входила в труппу приезжавшего на зимние сезоны театра.