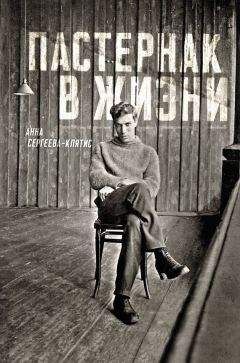Встреча с сестрой Лидой так и не произошла. Уже смертельно больной, Пастернак просил Лиду о приезде и ждал ее со дня на день в течение «траурного мая» 1960 года. Но Лидии никак не хотели давать въездную визу в СССР, и советское посольство в Англии бесконечно тянуло с разрешением. Это был еще один акт мести советской номенклатуры писателю Борису Пастернаку за публикацию на Западе его романа «Доктор Живаго» и за полученное им мировое признание. Лидии Леонидовне виза была дана только после того, как пришло известие о смерти ее брата. И, приехав в Переделкино, она оказалась уже на его свежей могиле.
* * *
Отдельного разговора заслуживают отношения Б. Пастернака с его кузиной О.М. Фрейденберг, которые в заглавии книги их переписки удачно определены как «пожизненная привязанность»{86}.
Ольга Михайловна была дочерью родной тетки Бориса, старшей сестры Леонида Осиповича Анны, и одаренного в разных областях Михаила Филипповича Фрейденберга, изобретателя первой в мире автоматической телефонной станции, журналиста, драматурга, актера, воздухоплавателя и проч. До 1902 года каждое лето Пастернаки и Фрейденберги выезжали на дачу в Одессу, так что близкие отношения между двоюродными братьями и сестрами не могли не сложиться. Однако на детях обеих семей был отпечаток родственной гениальности, что, конечно, усложняло их общение с самого раннего возраста. О.М. Фрейденберг впоследствии вспоминала: «Летом я всегда у дяди Ленчика на даче. В комнатах пахнет чужим. По вечерам абажур. Тысячи мошек кружатся вокруг света. Кушают чужое, не так, как у нас: грешневую кашу, например. Боря очень нежный, но я его не люблю. Тетя все время шепчется с дядей и мамой, и есть слух, что мне придется выйти за него замуж. Это меня возмущает. Я не хочу за него, я хочу за чужого! Но Боря любит и прощает. Я гуляю с меньшим кузеном, Шуркой, и тот, затащив меня в кусты, колотит, а выручает всегда Боря; однако я предпочитаю Шурку. Мы играем в саду. Запах гелиотропа и лилий, пахучий, на всю жизнь безвозвратный. Там кусты, и в них копошимся мы, дети; это лианы, это дремучие леса, это стены зарослей и листвы… Как непроходимы чащи кустов! Сколько близости с травой и цветами! Там — первый театр. Я сочиняю патетические трагедии, а Шурка, ленивый и апатичный, нами избиваем. Мы играем, и Боря и я — одно. Мы безусловно понимаем друг друга»{87}.
Ольга Фрейденберг училась в одной из лучших петербургских гимназий, была прекрасно образована, иногда чрезмерно требовательна по отношению к близким, горда и уверена в себе. В 1910 году между Борисом и Ольгой едва не вспыхнул роман. Вернее, он именно вспыхнул, но был пережит и изжит фактически одним Борисом.
Семья Пастернаков проводила лето в курортном месте Меррекюль, туда по настойчивому приглашению Бориса приехала на несколько дней Ольга. Он встретил ее, они провели вместе много времени, о многом успели переговорить, потом он проводил ее до Петербурга и уже оттуда вернулся в Москву. Именно там, в Меррекюле и по дороге обратно, были определены темы, на которые они не уставали говорить в дальнейшем до конца своей жизни, именно там была найдена интонация этого разговора, который длился без малого 50 лет. Вернувшись из Меррекюля в Москву, Борис никак не мог оторваться от кузины, прекратить общение хотя бы на время и писал ей фантастически многостраничные письма: «…Ты не знаешь, как росло, росло и вдруг стало ясным для меня и другое, мучительное чувство к тебе. Когда ты так безучастно шла рядом, я не умел выразить тебе его. Это какая-то редкая близость, как если бы мы вдвоем, ты и я любили одно и то же, одинаково безучастное к нам, почти покидающее нас в своей необычной неприспособленности к остальной жизни»{88}. Она отвечала ему примерно в том же ключе. Лирический поток, изливавшийся со страниц писем Пастернака, не испугал Ольгу Михайловну, наоборот, нашел в ней достойного адресата. Но мало-помалу к ней пришло осознание реальности: «Все, что у меня произошло с Борей в течение июля, было большой страстью сближения и встречи двух, связанных кровью и духом, людей. У меня это была страсть воображения, а не сердца. Никогда Боря не переставал быть для меня братом, как ни был он горячо и нежно мною любим. Какая-то черта лежала за этим… Да, братом… Я не могла бы в него никогда — влюбиться»{89}. И она неожиданно резко прервала его ожидания. На его страстные призывы приехать в Москву ответила однозначным отказом. Это имело важные последствия для Пастернака. Он решил для себя, что обрыв отношений связан с неприятием Ольгой его внутреннего мира. Мира, который нарочито удален от ясной и классической определенности, органически связан с тайной искусства, романтикой творчества. Как раз в это время в жизни Пастернака произошли уже описанные выше изменения, окончательно позволившие ему сделать, как казалось, единственно возможный выбор: иррациональность музыки была заменена на рационализм философии. Летом 1912 года, во время своего летнего семестра в Марбурге, Пастернак, ощутивший всю тщету своего философского взлета, только что переживший большую душевную драму неразделенной любви, испытывающий внутренние метания между чистым интеллектуализмом и набирающей силу поэзией, совершенно неожиданно встретился с Ольгой Фрейденберг. Она, пользуясь неограниченной свободой, предоставленной ей в семье, одна путешествовала по Европе. Будучи проездом во Франкфурте, написала ему письмо с приглашением приехать, не особенно рассчитывая на встречу. Однако Борис на этот зов откликнулся мгновенно и на следующий же день был во Франкфурте. Ольга Михайловна в шутку назвала эту встречу «неудачным свиданием монархов». Она вспоминала: «Вдруг дверь открывается, и по длинному ковру идет ко мне чья-то растерянная фигура. Это Боря. У него почти падают штаны. Одет небрежно, бросается меня обнимать и целовать. Я разочарованно спешу с ним выйти. Мы проводим целый день на улице, а к вечеру я хочу есть, и он угощает меня в какой-то харчевне сосисками. Я уезжаю, он меня провожает на вокзале, и без устали говорит, говорит, а я молчу, как закупоренная бутылка»{90}. Молчание Ольги было для Пастернака знаковым: он прочел в нем то, чего меньше всего ожидал. Оказалось, что усилия, которые он предпринял для самосовершенствования со времени Меррекюля, были вовсе не тем, чего ожидала от него кузина. Даже совсем наоборот: если тогда она упивалась значительностью и глубиной произносимых им истин, то теперь он показался ей куда более поверхностным и примитивным. С ее точки зрения, он не только не сделал в своем развитии шага вперед, но сильно отстал, оказавшись позади нее самой. Самым болезненным для Пастернака было то, что он и сам в этот момент ощущал ложность избранного пути и готовился, мучительно и скрупулезно, к очередному решительному повороту. «Боже, — писал Пастернак своему другу А. Штиху вскоре после встречи с кузиной, — если бы она мне все это сказала тогда; тогда б я не считал, что предстоит дисциплинарная обработка — в которой погибло все — в целях уподобления классическому и рациональному…»{91} К счастью, Пастернак ошибался. Период служения классическому и рациональному благополучно миновал, его приверженность искусству не только не погибла, но укрепилась, изменила смысл, форму и превратилась в единственно возможное и полностью осуществленное жизненное призвание — быть поэтом.