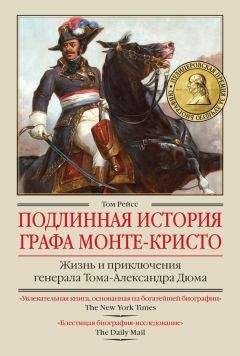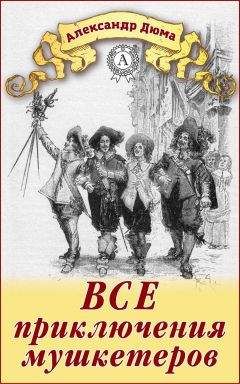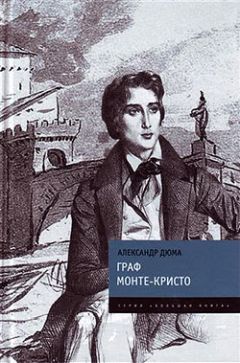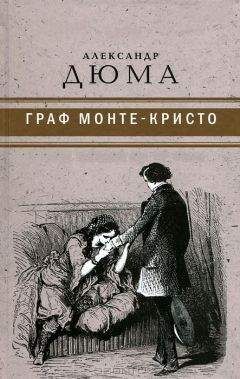Помню, отец рассказывал мне[169], что как-то раз, вернувшись домой из города, он – тогда десятилетний мальчик – с огромным удивлением обнаружил на берегу моря что-то вроде древесного ствола. Когда он проходил здесь два часа назад, то ничего подобного не заметил, а потому развлечения ради стал подбирать гальку и бросать ее в бревно. После точного попадания бревно внезапно проснулось. Ведь на самом деле это был не кто иной, как кайман [близкий родственник аллигатора], спавший на солнышке.
Кайманы, судя по всему, просыпаются в дурном расположении духа; герой нашего рассказа мельком увидел моего отца и поставил перед собой задачу догнать его.
Отец – настоящее дитя колоний, сын морских пляжей и саванн – бегал хорошо; однако очень скоро выяснилось, что кайман бегал или, скорее, прыгал еще лучше, и это приключение вполне могло навсегда оставить меня в небытии, если бы один негр, который в тот самый момент поедал сладкий батат, сидя на стене, не увидел погоню и не закричал моему отцу, уже вконец выдохнувшемуся:
«Змейка, маленький сэр! Беги змейкой!» – стиль передвижения, прямо противоположный схеме перемещения каймана, который может бежать или прыгать, как ящерица, только по прямой.
Благодаря этому совету, отец добрался до дома целым и невредимым, но он прибежал, подобно греку из Марафона, запыхавшись и был близок к тому, что, как и упомянутый исторический персонаж, никогда больше не сумеет восстановить дыхание вообще.
Погоня, в которой зверь был охотником, а человек – добычей, произвела глубокое впечатление на моего отца.
Островная жизнь, без сомнения, отточила природные навыки Тома-Александра[170]. Один военный биограф девятнадцатого столетия объяснял его легендарное искусство наездника, которое позволяло сражаться верхом на самых крутых валах и самых узких мостах, тем, каким образом мальчик учился верховой езде: «Подобно всякому жителю этих новых стран[171], где человеку приходится приручать животное, которое он будет использовать, где сила и ловкость заменяют знание, приобретаемое позже в школе верховой езды».
Помимо природы и диких животных, у Тома-Александра был отец. Антуан был негодяем, но негодяем образованным. К числу великих ученых он не относился, но знал произведения и историю римлян и греков, а подготовка в качестве офицера артиллерии дала ему достаточно глубокие познания в естественных науках и математике. Возможно, Антуан брал своего высокого и красивого сына в театр и оперу в соседнем Джереми. Всего через несколько коротких лет Тома-Александр легко впишется в парижское общество, восхищенное его учтивостью и изысканными манерами. Бывший солдат конечно же мог преподать сыну основы верховой езды и стрельбы, а также самозащиты при помощи клинка, что было самым важным для мужчины восемнадцатого столетия.
Держа в руках свою старую армейскую саблю, Антуан мог рассказывать мальчику о своих нормандских предках, о своем участии в войнах и о том, как герцог Ришелье на его глазах насмерть заколол князя Ликсена. Но что должен был чувствовать белый мужчина, когда он учил своего сына-мулата сражаться на дуэли подобно юному мушкетеру, нападать и отступать среди мангровых деревьев и когда подмечал в ученике талант бойца, доселе невиданный среди его предков, по крайней мере, за последние несколько поколений? Этому таланту предстояло стать ярче, чем кто-либо из них мог представить.
Глава 3
Нормандское завоевание
В начале 1750-х годов, в тот самый момент, когда стремительно растущее состояние позволило ему выкупить всю плантацию[172], Шарль Дави де ля Пайетри столкнулся с главным бедствием преуспевающих людей восемнадцатого века – подагрой[173]. Доктора сказали, что карибский климат пагубно влияет на состояние его здоровья и что ему станет гораздо лучше после возвращения во Францию. Тогда, оставив плантацию и более двухсот рабов под надзором управляющих[174], Шарль с женой и дочерью-подростком, Мари-Анн, отплыл в Нормандию[175].
Они временно поселились в замке Пайетри[176] в Бьельвиле вместе с родителями Шарля. Маркиз и маркиза обрадовались возвращению преуспевающего сына, который, как-никак, присылал им деньги[177]. Во Франции восемнадцатого века не было ничего лучше как иметь в семье плантатора.
Отец рассказал Шарлю о недавней денежной ссоре. В замке нашли набитую монетами металлическую шкатулку. Она была спрятана внутри набитого соломой тюфяка. Вдовствующая сестра маркиза заявила, что это она спрятала шкатулку и что деньги принадлежат ей. Маркиз оспорил это утверждение. Чтобы разрешить спор, вызвали нотариуса. Когда он спросил тетю Шарля, прятала ли она монеты собственноручно, та признала, что нет. Но затем почтенная дама внезапно бросилась вперед, прикрыла шкатулку собственным телом и стала кричать и пинаться. Нотариусу пришлось бороться с ней, чтобы вновь завладеть шкатулкой. Во время потасовки вдова, как сказано в отчете, «ударила и укусила свидетеля»[178]. Яркая иллюстрация того, до чего могла дойти семья Пайетри в спорах о наследстве.
Когда маркиз, а спустя короткое время и маркиза умерли, Шарль поторопился заявить о своих правах, как старший из живущих братьев Пайетри (хотя первенцем и наследником был Антуан). В более позднем судебном документе сказано:
…не зная, жив ли их старший брат[179], а если да, то в какой из стран мира он находится, и считая его мертвым, поскольку он [многие] годы не подавал о себе вестей, [два младших брата] поделили доходы от поместья в соответствии с принятыми в регионе обычаями. Шарль-Эдуард присвоил себе все преимущества, которые закон дает старшему из сыновей.
Шарль, как новый маркиз Дави де ля Пайетри[180], поселился в родовом замке и унаследовал все находившееся там имущество, тогда как примерно четверть ренты и собственности досталось младшему брату – Луи[181]. Шарль немедленно ухитрился попасть в Версаль[182] и заручился благосклонностью влиятельных аристократов, таких как маркиз де Мирабо[183] (отец оратора-революционера). Он использовал сахаропроизводящую плантацию как залог под обеспечение займов[184], на которые начал скупать недвижимость во Франции, и занимал еще большие суммы, чтобы жить, ни в чем себе не отказывая.
Однако хотя его состояние продолжало расти, Шарль знал, что дела на плантации обстоят плохо. Начало Семилетней войны и английское эмбарго нанесли сокрушительный удар по торговому судоходству между колониями и метрополией[185]. Объемы экспортных перевозок упали катастрофически, сахарный тростник гнил на корню, а Шарль терял десятки тысяч ливров. Огромные партии очищенного сахара валялись вокруг его склада, судов, готовых взять этот груз на борт, не было. Бизнес столкнулся с серьезными трудностями. Впрочем, Шарль, кажется, полагал, что благодаря новым могущественным друзьям и новому титулу он вполне готов затеять рискованное предприятие, которое сулило ему решение всех финансовых проблем.