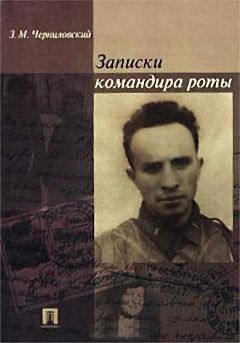- Мамохин, посмотрите, что это?
- Очки. Оттаяли на солнце. Не выковыриваются.
Дело сразу же разъяснилось. Мертвые немецкие солдаты, уложенные штабелями вдоль сожженных домов. То же в сарае, где все было приготовлено к кремированию. Мерзлая земля, понять можно. Впечатление жуткое.
А за деревней, по пути на командный пункт, видишь следы недавних сражений. И наши и ненаши: поле мертвых. Проходим мимо похоронной команды. Еще издали заметил, что четверка составляющих ее солдат сидят на чем-то посреди чистого заснеженного поля.
- Обедают, - комментирует эту сцену Мамохин. - Намаялись таскавши.
Заметив нас, все четверо стали во фрунт с ложками в руках. И тут я увидел нечто непривычное, все еще непривычное, хотя, казалось бы, всего навидался. Сидели эти парни на трупах. Замерзших, конечно. Положенных один на другой. В горшке дымилась каша. Мирный отдых и обед.
Возвращаясь, я увидел их за работой. Сентиментальные читатели могут пропустить этот абзац, как я и сам многое опускаю в своем рассказе. Нацепив на ногу трупа петлю, солдаты стаскивали убитых в кучу, перекинув веревку через плечо. Как санки. "А как еще?" - спросил я себя. И пошел не оглядываясь. "Мертвые сраму не имут"?
Что такое сантименты? Только ли "проявление излишней чувствительности"? Или еще и другое, обязательный компонент жестокости?
Запомнился мне немецкий окоп, отвоеванный еще в начале наступления. Дно окопа было устлано соломой и обрывками немецких газет и журналов. Подняв один из них, я наткнулся на фотографию фюрера, ласково треплющего ягненка. Лицо его источало чувствительность. А под фотографией значилось: "Адольф Гитлер - президент Всегерманского общества защиты животных". И мне вспомнился Сталин, точно таким образом завладевший личиком знаменитой Мамлакат и, как рассказывали, ронявший слезы сожаления в последней сцене фильма "Чапаев", Сталин, многократно смотревший чаплинские чувствительные "Огни большого города".
Не стану хвастать своей ранней понятливостью, скажу только, что в 1937 году был репрессирован мой отец, за честную и коммунистическую убежденность которого я могу смело поручиться. Как-то, осмелев, я позволил себе упрекнуть Сталина в том, что по сравнению с Лениным он редко выступает.
- Редко, - отрезал отец, - но каждое его выступление - программа!
Это было, наверное, в 1929 или 1930 году, когда уже все главное вполне определилось. И отец мой, замечу, был отнюдь не несмышленыш. Чем же все это было? И для нас, и для немцев?
...В том же окопе, кстати, и я и мои солдаты, встав поутру с гнилой соломы, обнаружили на себе импортных вшей. До того мы их не знали. В Наро-Фоминске бани топились регулярно и белье наше старательно просматривалось всеведущим старшиной. В том числе и мое. Я был потрясен. Но из всего может быть извлечен полезный урок. И чтобы вернуться к счастливому настроению, я позволю себе следующий рассказ.
Примерно через год по обстоятельствам, о которых я намерен рассказать в своем месте, докладывая уже в качестве помощника прокурора 43-й Армии (все той же 43-й, дошедшей до Кенигсберга), я (в связи с одним уголовным делом) доложил Военному совету армии в присутствии двух десятков офицеров, при сем присутствовавших, что в таком-то медсанбате, кстати сказать, вши переползают от одного раненого к другому, пользуясь для этого полотняной стенкой.
- Полковник Гинзбург, - возвысил свой голос командующий армией генерал-лейтенант Голубев, - что это может значить?
Начальник санслужбы армии, кандидат медицинских наук полковник Гинзбург поднялся с места и, пожав плечами, спокойненько так доложил:
- Видите ли, товарищ командующий, сообщение прокурора вносит новый вклад в медицинскую науку. Ибо до сих пор считалось, что нательная вошь не оставляет своего донора ради сомнительных путешествий по стенам.
Легкая улыбка осветила мрачноватое лицо командующего, а член Военного совета повернулся ко мне в намерении сказать что-нибудь язвительное. Не любил прокуратуру. Но был весьма расположен к СМЕРШу.
И тут я вспомнил своих наро-фоминских кровопийц. Рассказ мой произвел впечатление. А когда начальник тыла, человек удивительной интеллигентности, поставил моему оппоненту в упрек и тон и содержание доклада, настроение переменилось полностью.
- Как вы могли? - спросил я полковника, уже сидя в седле, чтобы возвратиться во "второй эшелон" штаба армии.
- А что мне оставалось, - ответил он цинически. - Откуда мне было знать, что моим оппонентом будет... - И сел в машину, не договорив свое "вшивец", "завшивленный" или что-нибудь в этом роде.
23
Штабная служба на фронте, да еще в масштабах полка, оказалась, вопреки ожиданиям, далеко не рутинной. Теперь приходилось отвечать за "тысячи мелочей". И на сон оставалось много меньше, чем в роте.
Тем более что едва ли не большую часть времени, и особенно в горячие дни, приходилось бывать и на НП, и в батальонах. И как ни странно, самые живые и самые драгоценные для меня воспоминания приходятся именно на такого рода дни и недели.
Всего не расскажешь, но вот, например, повернутые к Юхнову батальоны вынуждены были отрыть себе окопы в снегу. И здесь пребывали. НП Балояна был столь же снежным. Противник находился от нас метрах в четырехстах и точно так же окопался в глубоком снегу. Был, по всей видимости, апрель 1942 года.
Требовалось подписать листы с представлениями на следующее воинское звание, что относилось к моей компетенции. И хотя Балоян возражал: "Можем потерять человека", - я явился. Хотя и ночью, конечно. Лейтенанты требовали заслуженных "кубиков" на темных петлицах, и я не мог ссылаться на "обстановку". К тому же некоторые из них, едва узнав о представлении, уже и сами нацепили себе недостающий знак.
Формальности заняли несколько минут, доклад о других делах штаба чуть больше, ибо связь поддерживалась у нас, почти не прерываясь. Намереваясь прикорнуть часик-другой, ибо до рассвета было еще далеко, я было отошел в тихий угол, но был вызван по срочной необходимости.
- Вот что, Черниловский, - сказал мне подполковник. - Прошу вас составить представление на себя самого. Довольно вам прятаться за военюриста. Пора присвоить вам строевое звание капитана. Это во-первых. А во-вторых, поелику вы строевой офицер, не сочтите за труд направиться в первый батальон и сообщить его командиру лично приказ о наступлении. Карту видите? Вот его маршрут, а вот его цель и время. Запоминайте внимательно. Все, кроме автомата, оставите здесь, дорога небезопасная, на виду противника, но я вам дам своего автоматчика. Не перепутаете? Ладно, ладно, верю.
...К слову сказать. Чего только на мне не висело в первые недели пребывания на фронте. Как на Робинзоне Крузо по иллюстрациям Жана Гранвиля. Автомат, парабеллум, штык в чехле, противогаз, гранаты на поясе и взрыватели к ним в нагрудном кармане, левом - ближе к сердцу. Наконец, полевая сумка и планшет. Распоясаться, простите, было делом нелегким. Скоро это ушло. И штык и противогаз. Остался один любезный сердцу парабеллум, безотказный трофейный пистолет, честно отнятый в честном бою. А в сложных ситуациях еще и автомат - "шмайсер", легкий, удобный, безотказный, заряжающийся не с круглой катушки, а с магазина, легко входящего в сапог... И планшет.