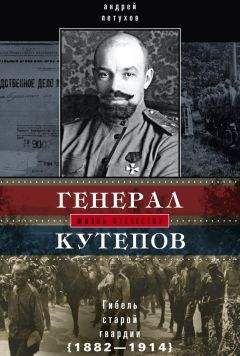Коротка дорога, коли шаг скор. Вот и Журавли видны за лесом, вот и дом его голубеет ставнями. У ворот на скамейке Мария Павловна вечер коротает. Едва подошел, спросила:
— Отмаялись?
— Все, мать. Конец одной заботе. Журавлята дома?
— Нету, разбрелись… Садись, отдыхай.
Тих и легок весенний вечер. Вполсилы горит остывшее за зиму солнце, синева неба густа и вязка. Мелкая еще, древесная листва источает сладкий аромат — не летний щедрый, не осенний спелый, а свой, едва различимый, но пряный и успокоительный. На земле тихо, в облаках тихо, на душе Журавлева тоже тихий покой.
Но держалась эта благодать недолго. Всегда так: только чуть расслабился — и хлынули в эту слабину новые толпы забот.
Из проулка вывернулась Наташа. Одета она по-летнему: розовое платье в крупный белый горошек, белые туфли на толстой подошве, голова прикрыта ажурной косынкой. Подошла, спросила удивленно:
— Надо же! Сидят и молчат.
— И ты садись, повечеруй, — Мария Павловна подвинулась, освобождая место на скамейке.
— Нашли старуху! На ферму пора собираться.
— Сядь, Наталья, разговор есть, — Иван Михайлович перед всяким разговором первым делом закуривает.
— Начинается! — проворчала Наташа. — Что вы из меня жилы тянете? Не туда пошла, не так сказала, не то сделала… Вот дождетесь, уеду, куда глаза глядят.
Посмотрела с вызовом, но тут же опустила голову, зарделась.
— Врагов в своем доме нечего искать, — говорит Иван Михайлович. — Ты лучше вот что скажи, Наталья: мне как быть? Вот завтра собрание, и спросят люди: как же так, Журавлев, в чужом глазу соринку видишь, а в своем? Как тут отвечать, елки зеленые? И что отвечать?
— И я про то же говорю, — вставила Мария Павловна, — а все как в стенку горох.
— Забыл, как сам радовался? — спросила Наташа отца. — Мы — Журавли! Мы — такие!
— Говорил, — признался Иван Михайлович. — Не понял я сразу, куда оно повернется… Теперь ты пойми, Наталья. Я очень тебя прошу.
Наташа знала, что может получиться, если и дальше говорить на эту тему.
— Так я пошла, — сказала она. — Вечеруйте.
— А ужинать? — остановила ее Мария Павловна.
— Потом, как с фермы приду…
Вскоре подкатил на мотоцикле Андрюшка, лихо тормознув у ворот.
— Солнышко провожаете? — спросил он и сразу осекся, едва отец уставил на него глаза-буравчики. — Ты чего, батя?
— Ничего… Не знаешь случаем, кто дорогу у Осинового колка перепахал.
— Какая еще дорога?
— Обыкновенная, по которой ездят.
— Ну я, — набычился Андрюшка. — Подъемник не срабатывает.
— Какой пахарь — такой и плуг… Ты вот чего, елки зеленые. Давай ужинай, бери лопатку и дуй туда. Заровняешь. Утречком доскачу, проверю.
— Может, завтра? — вступилась мать. — Куда гонишь, на ночь глядя.
— Не завтра, а нынче! — отрезал Иван Михайлович.
— Так плуг же не поднимается! — закричал Андрюшка. — Виноват я, да? Я один на дорогу заехал, да?
— Сперва с тебя спрос, с других — потом. Запомни наперед. Ишь, елки зеленые! Я знаю, чего ты выжидаешь. Чтоб я сам поехал. Ушлый какой нашелся!
Андрюшка больше не стал спорить. Счел за лучшее бежать во двор за лопаткой. Крутнув педаль мотоцикла, он рванул его с места и укатил.
До ночи хватило бы парню заваливать борозды, не догадайся Валерку и Пашку позвать на подмогу. Втроем за какой-то час перевернули тяжелые пласты, и полевая дорога обрела прежний вид. После ребята долго смеялись над горе-трактористом…
Посиделки у ворот кончились разговором с Кузиным. Вот уж кого не ждали, тот сам пришел.
— Чегой-то нарядный ты, Захар? — спросила Мария Павловна.
— Да вот приоделся. Надоело за весну сапогами бухать. С такой работой и на себя глянуть некогда.
Захар Петрович примостился на скамейку, сбил на затылок соломенную шляпу.
— Куда это Андрей недавно промчался? — спросил он.
— Да размяться, — нехотя ответил Журавлев.
— Лютуешь все? — Захар Петрович качает головой. — Это так, к слову… Доклад писал на завтрашнее собрание. Я, Иван, человек прямой, ты знаешь…
— Ясно! — Журавлев хмыкнул, словно ему все известно, и слова Кузина только подтвердят это. — Пришел сказать, что достанется мне на орехи? А я не боюсь, Захар. Что во мне — то со мной. Поздно меня переучивать.
— Да ничего тебе не ясно! — отвечает Кузин. — Одно знаешь — меня винить. Сам заманил сюда, а теперь спишь и видишь, как бы посильнее в грязь втоптать, побольнее ударить… В мою бы шкуру тебя сейчас, узнал бы эти фунтики председательского лиха. Ну, чего голову угнул? Ты в глаза мне глянь, может, теперь я пойму, чем я виноват перед тобой.
— Ошибаешься, Захар мой Петрович, — тихо и размеренно возражает ему Иван Михайлович. — Я и себя виню. Я, елки зеленые, раньше других твою беду заметил. Мне бы криком кричать, а я молчу и жду. Тебя еще можно простить, меня же — никак нельзя… Вот уже года три или пять, — продолжал Журавлев, — мы не говорим друг с другом обыкновенными словами. С опаской сходимся, с опаской расходимся, все подковырки ждем. Мы оба боимся жалости, хотя ни разу не пожалели друг друга.
Обидные слова сказал Журавлев, страшные слова, холодом на спине отозвались они у Захара Петровича. Он помотал головой, будто одолела его сонливость в неурочный час, поковырял носком ботинка слежавшийся песок у скамейки.
— Некогда мне, Иван, про это думать. У меня колхоз на шее.
— Опять — «я», опять — «у меня», — ухватился Журавлев.
— Любишь ты, Иван, к слову придраться.
— Эх, мужики вы, мужики! — не вытерпела Мария Павловна. — Хоть бы нынче-то не ругались, не спорили. Вечер-то славный какой!
Вечер, правда, пригож. Солнце скатилось к самому лесу, и новыми красками заиграло все вокруг. В небе пасутся табуны золотистых облаков, будто достают их из печи и неостывшими выпускают на волю ветра. Лес полон неясного шороха, шепота, вздохов. Дома, озаренные закатом, сияют умытыми розовой водой окнами…
— Ты завтра, Иван, не очень-то, — попросил Кузин. — Сами развели грязь и сами выскребать будем.
— За этим и приходил? — удивился Иван Михайлович.
— Пожалуй…
— Это как собрание пойдет.
— Что ж, и на том спасибо.
Захар Петрович ушел, не подав руки. Голова опущена, широкие плечи обвисли. Журавлев направился было следом, но остановился и долго смотрел, как медленно бредет по проулку старинный его дружок-недруг.
В Журавли секретарь райкома приехал рано утром. Днем его видели в летнем животноводческом лагере, в мастерских, на полях. При Кузине люди разговаривали неохотно, Волошин заметил это.