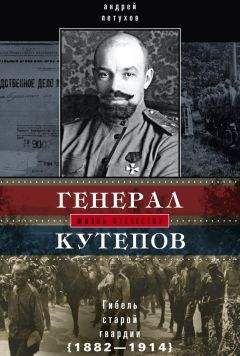Собрание
В Журавли секретарь райкома приехал рано утром. Днем его видели в летнем животноводческом лагере, в мастерских, на полях. При Кузине люди разговаривали неохотно, Волошин заметил это.
Теперь вот он сидит на собрании, оглядывает ближние и дальние ряды журавлевцев, каждый раз натыкаясь на колючий взгляд Журавлева. Днем Иван Михайлович уклонился от разговора, заметил: «Не меня надо спрашивать, я свое слово сказал».
Кузин хорошо, на голосе, закончил первую часть доклада и перешел к недостаткам.
— Наши достижения могли быть значительно лучше, если бы все работали засучив рукава. На молочной ферме завелись крикуны, которым не дают покоя успехи лучшей доярки района Натальи Журавлевой. Среди механизаторов тоже имеются любители делать все на свой лад.
— Конкретнее! — выкрикнул кто-то.
— Могу и конкретно сказать. Это относится в первую очередь к Ивану Михайловичу Журавлеву. Правление колхоза и партийная организация поддержали его инициативу по созданию молодежного звена. Из этого товарищ Журавлев сделал вывод, что теперь ему все позволено. Из отдельных фактов у него стала складываться целая система противодействия руководству колхоза. Взять последний случай в Заячьем логу…
Захар Петрович разволновался, сбился с размеренно-торжественного тона и начал критиковать всех подряд. Один плох, что робкий, другой плох, что бойкий, третий плох сразу по всем статьям.
Выдохся Кузин, сел за стол с красной скатертью, утер пот с лица. А собрание загудело. Одни стали кричать, что неверно все, а другие, опять же, — что верно. Но разом стихли, как только поднялся и вышел вперед Журавлев. Повертел головой с края на край собрания, хотел расстегнуть верхнюю пуговку рубахи, но за недосугом дернул покрепче, с мясом выдрал.
— Хочу пояснение дать насчет моих преступлений, — заговорил он. — Вон сколько собак, елки зеленые, Захар Петрович на меня навесил, впору падать от такой тяжести. А за что? Что землю нашу не хочу позорить, за урожай бьюсь? Мало ведь нас, народу в деревне нашей мало. В заводском цеху в одну смену рабочих больше выходит, чем во всех наших Журавлях. Так могу ли я, елки зеленые, чтоб на моем поле хлеб вперемежку с бурьяном рос? Не могу! Ни под каким видом! Ребят на это настраиваю и могу сказать, что хлеборобы из них получатся хорошие. Есть в чем-то моя вина, признаю ее. Но в главном, елки зеленые, ни перед кем я не виноват…
…На собрание пришла и Наташа. Она остановилась у своего портрета на доске Почета, спросила:
— Как чувствуем себя, Наталья Ивановна? Все улыбаешься? Тебе нравится это? А мне вот больно… Наш старый Журавль мудрый и справедливый, а у журавленка слабые крылья…
Одна за другой доярки винили ее наравне с Кузиным. Она пыталась по лицу Захара Петровича понять, что же теперь ей делать? Пришлось встать и принародно признать, что не стало порядка на ферме и что ее первенство в соревновании — несправедливое. Чтобы такого больше не было, сказала Наташа, она уходит с фермы.
Когда кончилось собрание и люди разошлись по домам, Наташа снова остановилась у доски Почета. Она решила снять свой портрет и этим поставить последнюю точку в затяжной истории с молодежной бригадой. Но услышала за спиной:
— Зачем доску Почета ломаем?
Это Антон явился на пятачок как всегда с гитарой.
— Маяк выключаю…
— А ревешь зачем?.. На фоне небывалого подъема сельского хозяйства, когда мы все, как один, находятся отдельные люди, сознательность которых…
— О чем это ты? — сквозь слезы проговорила Наташа.
— Речь Кузина пересказываю… А если серьезно, Натаха, то на кой черт ты полезла выступать? Ты что, правда, уйдешь с фермы или это был треп под настроение?
— Уйду…
— Куда, если не секрет?
— Все равно! — в голосе Наташи послышалось отцово бесшабашно-отчаянное упрямство.
— Слушай, Натаха, — заволновался Антон. — Может, того… В Сибирь вместе махнем?
— С тобой, что ли? — Наташа усмехнулась.
— А что? Я такой… Ну их всех, пускай сами тут разбираются, кто кому должен.
— Глупый ты, Антошка. Пошла я.
— Так и я пошел! — обрадовался Антон. — Нам же по дороге…
Ветер качает и качает фонарь у клуба. Деревне полагалось бы спать уже, но она тихо бурлит. Не спится и Кузину. Уже лег, но проворочался с час, поднялся, оделся, вышел на улицу.
Он обижен на Волошина. За резкое в его адрес выступление, за злую иронию, за оправдание Журавлева. После собрания Волошин не поговорил наедине, хотя и было о чем, а сразу ушел с агрономом. О чем они теперь толкуют, какие оценки дают ему и какие планы составляют? Или все иначе? Волошин внушает молодому секретарю, что надо поддерживать авторитет председателя…
Сегодня Кузину стало по-настоящему обидно за себя, да и за все: постоянную нервотрепку, круговерть забот, частые попреки и редкую похвалу. Впрочем, и та адресуется не ему лично, а всему колхозу. Светлым праздником за последние годы был только один месяц. По секрету ему сказали, что есть намерение выдвинуть его. Но после месячного сладко-томительного ожидания где-то что-то не сработало, и начальником управления сельского хозяйства взяли молодого председателя соседнего колхоза… Из темноты неожиданно окликнул Кузина Козелков.
— Я с ног сбился, вас искавши, — торопливо заговорил Григорий. — Туда-сюда… Нет председателя, пропал… Это же, откровенно выражаясь… Не в ту позицию, Захар Петрович, вы встали. Надо было на Волошина поглядывать и корректировку делать. Да на успехи нажимать и каяться…
— Уйди, Гришка, без тебя тошно, — попросил Кузин.
— А куда я пойду? Кто меня ждет?
— Не знаю… Слышал, что на собрании говорили? Гнать тебя из конторы как бесполезную единицу.
— Опять в клуб, старух в хор собирать?
— Можно и к Журавлеву. Это ему как раз будет — воспитывать… Ладно, Гришка, ступай, дай одному побыть. Гул какой-то у меня в голове.
— Захар Петрович! — хнычет Козелков.
— Ступай! Найду тебе работу.
— Я же верой и правдой… В лепешку, если что…
— Сгинь! — закричал Кузин.
Оставшись один, он с болью подумал, что вон какая большая деревня Журавли, а нет для него хорошего друга-советчика. Раньше был Иван. Стучись к нему в ночь-полночь…
Кузин торопливо пошел в тот край деревни, где живет Журавлев. Зачем, этого он еще не знал…
Уняв сердце от быстрой ходьбы, Захар Петрович негромко постучал в раму. И тут же, будто его ждали, к стеклу припал Иван.
— Ты, Захар? — донесся его глухой голос.
— Я… Выйди, Иван, посидим…
Иван Михайлович вышел, на ходу застегивая рубаху. Сел на скамейку подле Кузина, привычно достал папиросы.