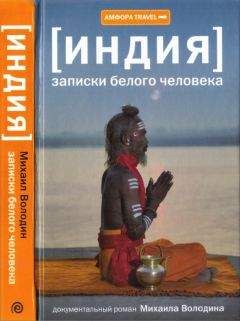Я смотрел на соседа во все глаза. Тот был так возбужден, что у него непроизвольно подергивалось веко. Чувствовалось, что он говорит о том, что давно занимает его мысли. Его возбуждение передалось остальным пассажирам. Затихли юноши, свесилась с полки надо мной еще не старая жительница Потанкота, обещавшая довести меня до автобусной станции, и совсем уже из-под потолка выглядывали два внимательных личика подружек-студенток. Казалось, и в других отсеках прислушиваются к нашему разговору.
— Так вот, Кремль для Венички — олицетворение материального мира. Того самого мира, что ловил и не поймал украинского философа Сковороду. Помните? — Индиец торжествующе посмотрел на меня. — Только Веничка не бежит от мира, а сам безуспешно ищет с ним встречи. Вот бы узнать, зачем она ему… Зачем ему Кремль, когда все его помыслы заняты небесными Петушками? Для него же и пьянство — освобождение от земных пут и упадание в небо. И сам он при этом — один из величайших мистиков и пророков — выбирает поезд. И мы с вами тоже выбрали поезд… У каждого свои Петушки… Под стук колес…
Язык соседа начал заплетаться. Казалось, вот прямо здесь, за разговором, он умудрился незаметно заглотить полбутылки водки. Но я-то точно знал, что этого не было! И оттого вдруг мелькнула мысль, все ли в порядке у меня с головой. Я уже не слушал собеседника, но неотрывно смотрел в его меняющееся на глазах лицо. Оно втягивало меня, как водоворот, в глубине которого сквозь безобразные составляющие проявлялись новые черты: светлый спадающий на лоб чуб, серые смеющиеся глаза, прямой нос… Это не могло быть ничем иным, как гипнозом. Я знал верный способ уйти из-под власти гипнотизера: надо было о чем-нибудь спросить его.
— Кем вы работаете? — обратился я к почитателю Венички. Мой вопрос, похоже, прозвучал слишком резко — собеседник вздрогнул и не сразу ответил.
— Учителем… Учителем ботаники. Разве это имеет отношение к книге?
— Не знаю, — сказал я, радостно наблюдая, как лицо собеседника возвращается к привычному уже уродству. Теперь надо было увести разговор подальше от злосчастной поэмы, и я тоном психиатра спросил о том, с какими еще произведениями русской литературы знаком необычный пассажир.
— Я прочитал всего Платонова, — немедленно отозвался мужчина. — Но особенно люблю «Чевенгур». Помните сцену, когда колхозники, чтобы стать лучше, берут вместо старых новые имена? Там еще образцами для подражания они выбирают Гракха Бабефа, Бебеля и других революционеров... Вы не думаете, что Платонов был хорошо знаком с индийским учением об аватарах?..
Веко у соседа снова дергалось и расстояние между глаз, казалось, сделалось в полтора раза шире.
До Потанкота мы добрались под утро. Учитель ботаники вышел часа за два до этого на небольшой станции, название которой я не запомнил. Он не попрощался и вообще постарался исчезнуть как можно незаметнее, словно сделал что-то неприличное или совершил какой-то проступок. Несколькими неделями позже, в Дхарамсале, в итальянском кафе, я познакомился с известным переводчиком тибетской литературы на русский. От него я узнал о литературных медиумах — людях, настолько глубоко вживающихся в книги, что способных заимствовать черты любимых персонажей на физическом уровне. Необычность случая, происшедшего в поезде Дели—Потанкот, по словам моего нового знакомого, была в том, что медиум вживался не в Махабхарату или Упанишады, как это происходит чаще всего, а в русские книги.
— При этом у вашего попутчика, похоже, отличный вкус! — заметил переводчик, делая крошечный глоток ароматного кофе, какой только и варят в Индии в итальянских кафе. — Быть может, в прошлой жизни он был вашим соотечественником. А если нет, то это еще одно доказательство величия русской литературы!