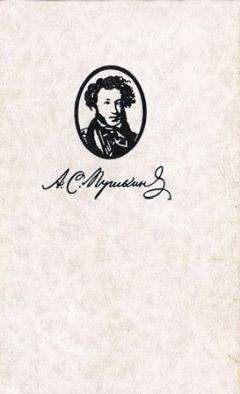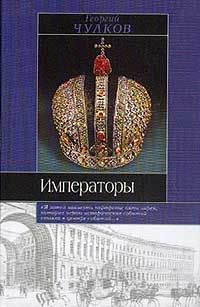Ознакомительная версия.
Но — согласитесь — мое положение при данных обстоятельствах можно назвать трагикомическим. Разумеется, всякий марксист, какого угодно возраста, стажа и грамотности, без труда определит мое место в плане социальных противоречий, и я заранее соглашаюсь, что я «мелкий буржуа» или какая-нибудь другая категория — но не все ли это равно с точки зрения меня да и высших интересов? Психологическая тема нисколько не меняется от того, как я буду называться на языке социологии. Вопросы остаются вопросами, а субъективно я ощущаю свою трагикомедию. Я называю свое положение трагикомическим, ибо, указывая на нравственную необходимость суда и возмездия для мировой буржуазии, сам отнюдь не могу похвастаться твердой уверенностью, что вообще существует какая-то нравственная необходимость. Я употребляю этот термин для того, чтобы выразить свой моральный вкус, но в качестве безбожника никак не могу обосновать своей оценки правления буржуазии, то есть солидно обосновать. Вот у верующих всегда найдется критерий добра и зла, а у нас, безбожников (коммунистов и некоммунистов), такого критерия, конечно, нет.
Поэтому я считаю свое положение несколько ридикюльным.[1329] Не вижу причины считать положение товарища Курденко менее смешным, чем мое, — в этом вопросе, разумеется. Но он, впрочем, едва ли заинтересуется когда-нибудь этой проблемой.
Я все возвращаюсь к Курденко, потому что Курденко символ. Он в некотором смысле momento.[1330] Однако если вам угодно извлечь какой-нибудь сюжет из этого моего дневника, то Курденко в сюжете не играет большой роли. Главный персонаж этого повествования я сам. Я даже не извиняюсь за эту нескромность. К чему китайские церемонии, когда все равно все прекрасно знают, что человек прежде всего интересуется собою; да и зачем мне врать при подобных обстоятельствах. Итак, я, Яков Адамович Макковеев, младший бухгалтер Сопиковского треста, и являюсь самым главным лицом трагикомедии.
Хорошо этой моей христианской умнице утешаться тем, что она знает Истину, пришедшую во плоти, но ведь я безбожник и, значит, у меня этого утешения нет. Но, с другой стороны, я отнюдь не склонен упрощать мои взгляды до уровня понятия товарища Курденко. Вот в чем комедия. Я прекрасно понимаю, что не будь христианства, не будь вообще религии — не было бы никакой культуры. Единственный источник поэзии, например, как думал Пушкин, есть положительная религия.[1331] С этим ничего не поделаешь. Даже такие третьестепенные писатели, как Вольтер,[1332] верили в Бога, правда, Бога довольно худосочного в полном соответствии со своим сомнительным стихотворством. Шелли[1333] был, конечно, пантеист,[1334] а не безбожник, да и поэт был все-таки отнюдь не великий. Впрочем, это дело ясное. Все гиганты мировой поэзии, начиная с Гомера[1335] и кончая Дантом, пламенно верили в богов. Я говорю, кончая Дантом, потому что так называемое Возрождение есть уже упадок культуры; начинается бесплодная критика и ее прелюбопытная связь с нигилизмом.[1336]
Все это я прекрасно понимаю. Но вот беда, у меня самого, бухгалтера Сопиковского треста, никакой веры нет. Я бы хотел верить, как Дант, что земля центр мира, что грешные и бесстыдные римские папы будут жестоко наказаны в подходящем для них адском помещении, что божественная Беатриче[1337] в самом деле существует, но веру в реторте приготовить нельзя, и лишенный благодатной помощи я оказываюсь — увы! — самым настоящим атеистом и попадаю в общество товарища Курденко. Разница в том, что товарищ Курденко даже понятия не имеет о том, что, собственно, он утратил благодаря своему безбожию, а я не только имею точные об этом сведения, но даже предвижу, что на безбожии никакой культуры построить нельзя[1338] и что даже торжествующая как будто бездумная машина в конечном счете обратится против человека и раздавит его безжалостно своей железной бездарностью. Даже хлеб, добытый машиной, будет горьким, если только человек не забудет основательно тот хлеб, который с любовью, перекрестясь, пекла его мать, и не будет жрать без толка и благоговения фабричную кухонную «обезличку». Возможно, что будущий человек так озвереет, что согласится на это общее свиное корыто, и тогда все начнется сызнова, то есть тоска по богам, рождение их из бессмысленного хаоса жизни, мифотворчество, культы, а из культа уже, разумеется, и культуры. Без культа, то есть без песен, пляски, жертвы, любви и молитвы, человек превращается в нечто столь жалкое и ничтожное, что ему следует в таком положении стремиться к самоуничтожению и отнюдь не воображать, что выйдет толк из его цивилизации и прогресса. Прогресс в этом смысле является самой тупенькой фикцией, какую когда-либо выдумывал человек.
Мне кажется, что мои мысли неопровержимы, но мне от этого ни тепло ни холодно. Я-то ведь все-таки в богов не верю. И рассуждениями тут не поможешь.
VII
В сущности, мне нет никакого дела до этой Таточки из третьего нумера. Я заходил к ней раза два как ответственный съемщик квартиры. Она сама заговорила со мною, напомнила, что была моей ученицей и меня «очень боялась». Довольно странное существо! Если она не в театре, значит, вы наверное найдете ее в постели, где она ест, пьет, принимает гостей и запоем читает книжки, которые у нее торчат из-под подушки. Я полюбопытствовал, что она читает. Книжки оказались неожиданными для актрисы «малых форм» — Достоевский, Гомер, Софокл…[1339]
— Кто вам дал эти книги? — спросил я, недоумевая. — Кудефудров?
— Нет, он мне принес свой сборник стихов. Вот он, — сказала она, указывая на ковер, где валялся томик рядом с ночными туфлями.
Я не удержался и сказал, что видел ее на сцене.
— Понравилась я вам?
— Да.
Но она вдруг нахмурилась.
— Эта «Карманьола» — ужасный вздор. Я хочу другого. Я хочу совсем другого.
— Чего же вы хотите?
— Я хочу сыграть Саломею.[1340]
— Это не советский репертуар, — пробормотал я, удивляясь странному выражению ее глаз.
— Что вы так смотрите на меня?
— У вас тысячелетия в глазах.[1341]
— Что это вы так странно выражаетесь, господин учитель… Вы, может быть, тоже пишете стихи?
— Нет. Я не пишу стихов. Я даже теперь не учитель. Я бухгалтер в Сопиковском тресте.
— Это смешно.
— Что смешно?
— Быть бухгалтером и думать о тысячелетиях. Впрочем, у моего мужа есть знакомый философ (у него, кажется, несколько книг напечатано). Этот философ, знаете, женские чулки вяжет.
Ознакомительная версия.