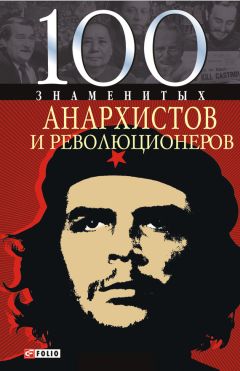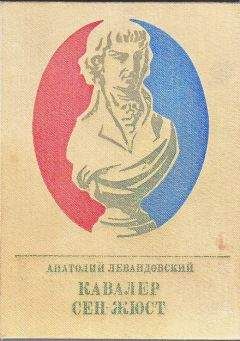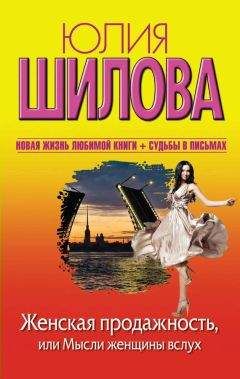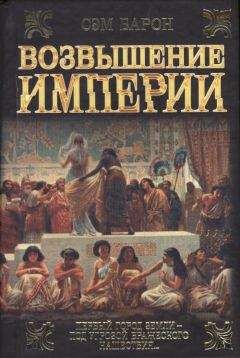Сам консул заметил это и говорил Редереру: “Вы уверены, что в общественном мнении не может произойти поворота в пользу королевской власти?[888] Редерер успокаивал его, говоря, что народу нужно сильное правительство, какое и будет ему дано, и что он примет его как эквивалент королевской власти, под республиканским этикетом, еще милых сердцу многих французов. Относительно народных масс Редерер был прав. Масса, желавшая только одного – чтобы ее не слишком угнетали и разумно правили ею, продолжала идти навстречу Бонапарту, сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее, пока из глубины не хлынул огромный вал, все увлекший за собой. Но в то время еще ясно не обозначились противоположные течения, кипевшие и боровшиеся на поверхности. При таком сильном тяготении народа к Бонапарту роялистам труднее, чем когда-либо, завоевать Францию; но они еще могут волновать ее, затягивать старые беспорядки и вызывать новые.
На всем протяжении французской территории нет такого центра, имеющего большое значение, или хотя бы самое ничтожное, где бы не нашлось меньшинства, готового поддержать всякое явное контрреволюционное движение; кроме того, весьма обширные районы остаются как бы обособленными, оторванными от государственной общности; другие держатся, кажется, только на волоске, который вот-вот оборвется под напором элементов давно укоренившегося беспорядка, дающего преобладание факции правой. В то самое время, как Бонапарт сделал себя первым консулом, против него зрел обширный заговор, к которому мы еще возвратимся с целью отвлечь от него юг, сделав его опорой и резиденцией монархии, которую желательно было восстановить.[889] В центре и на юго-западе пытались слиться воедино обломки старых мятежей. На западе, хотя религиозное замирание подорвало популярность восстания и как бы подрезало его у корня, армия шуанов оставалась под ружьем и перемирие не вполне прекратило ее деятельность. Вожди продолжали вести переговоры, но наиболее влиятельные из них допускали только вооруженный мир, т. е. то же перемирие, только лучше соблюдаемое, – мир, который давал бы им возможность в любой момент снова начать войну. Они требовали ни более ни менее, как особого режима для своего края, чего-то вроде автономии запада, сохранения белой Франции среди Франции трехцветной.
Опасность, грозившая со стороны роялистов, была страшна тем, что она была тесно связана с внешней опасностью. Все заговоры опирались на заграницу и оттуда черпали свои ресурсы; единственным их реальным шансом на успех была затяжная внешняя война. Победы при Цюрихе и Бергене отодвинули вражеское кольцо, теснившее наши границы, но не разорвали его. Правда, Павел I, из антипатии к своим союзникам и по внезапному капризу, отозвал свои войска. Бонапарт написал ему и английскому королю гордые и умно составленные открытые письма, где он приглашал их положить конец кровопролитию и начать переговоры о мире. Эти письма были обращены не столько к повелителям враждебных стран, сколько к французам, жаждавшим мира. Они должны были убедить их, что правительство только поневоле, по принуждению возобновит враждебные действия, в случае отказа неприятеля или унизительных для Франции требований с его стороны.
На деле мир в данный момент был по-прежнему невозможен. Наследник революционной традиции, Бонапарт хотел обеспечить за Францией линию Рейна, разрешить все еще открытый крупный вопрос о естественных границах, прибавив к ним все новейшие французские завоевания; кроме того, он рассчитывал вновь завоевать Италию, первую арену своей военной славы, без которой от его первых подвигов останется только тень – и воспоминание, которое скоро изгладится. С своей стороны, Австрия, дошедшая до Вара, уже коснувшаяся республиканской территории, конечно, не согласилась бы без боя отступить в глубь Италии, назад к Кампо-Формиа. Лондонский, кабинет допускал мир лишь с Францией, вернувшейся к прежним границам, и то лишь при обязательном; условии восстановления там королевской власти.
Значит, нужны еще битвы, и коалиция, зная, как истощена Франция, но не оценивая по достоинству непобедимой силы наших армий, считает возможным одержать верх даже и над Бонапартом.[890] Она тем более верит в успех, что чувствует себя в силах завладеть Провансом, что имеет точку опоры в самой Франции, благодаря волнениям и проискам внутренних врагов, благодаря роялистскому агентству в Париже, содержащемуся на английские деньги, благодаря шуанам на юге, в Лангедоке, на Западе. Коалиция надеется окружить консула кольцом мятежей, взбунтовать против него провинции и натравить одну половину Франции на другую. Будущей весной, если война в Альпах и на Рейне останется в прежнем неопределенном положении, если Бонапарту не удастся сразу решительной победой очистить от врагов наши границы, на него с помощью иноземцев может восстать контрреволюция и напасть на него с тыла.
Какого бы успеха он ни достиг вначале, внутренний порядок, замирение мятежных и полумятежных провинций, включение их в состав единого национального целого останется непрочным, пока коалиции не будет нанесен прямой удар, который заставит роялистов отложить свои надежды на неопределенное время.
Да и вообще, дать устойчивость общественному мнению и упрочить положение правительства может только мир, или, по крайней мере, победа, сулящая мир в ближайшем будущем. Пока нация лишена этого блага, как бы символизирующего и освящающего собой все другие, ничего прочного, в сущности, не достигнуто. Франция уже не цепляется больше за республиканские учреждения, не дорожит ни духом их, ни даже формой, хотя и старается сохранить их по имени; конституцию будут судить по ее результатам, “если она дает нам мир, ее найдут превосходной”.[891] Таким образом, внешний вопрос продолжает подчинять себе внутренний; окончательное право управлять французами Бонапарту предстояло завоевать через несколько месяцев, на поле битвы.
А пока он продолжал свое разумное и великое дело, в которое вкладывал всего себя: пересоздавал все области управления, усмирял факции, укрощал злобу и ненависть, с высоты власти внушал умеренность, из всех партий выбирал и выдвигал способных людей, становился вождем и центром объединения нации, сближал под своею властью две враждующие половины французского народа, кладя конец великому расколу во Франции. В его способе борьбы с препятствиями была необычайная смесь силы и ловкости, но ни одно из них ни разу не заставило его свернуть с начертанного им себе прямолинейного пути. Он идет к цели доблестно и осторожно, рассчитывая каждый шаг. Веря в удачу, в свою счастливую звезду, он один только не обманывается насчет огромных трудностей своей задачи. Он еще не знает, в какой форме ему позволено будет окончательно слить свою судьбу с судьбами Франции, которую он хочет сначала успокоить и переустроить. Кого сделают из него обстоятельства? Будет ли он Вашингтоном? Он позволяет об этом думать другим, быть может, сам думает так же. Любители исторических аналогий продолжают твердить: Кромвель. Вокруг него слышится порою шепот: Монк; его инстинкт отвечает: Цезарь. Подниматься выше, выше – таков закон и роковое свойство его натуры. Но для того, чтобы дойти до вершины, где его честолюбие станет вполне сознательным и откуда ему откроются безграничные горизонты, ему понадобилось шесть месяцев; он лишь постепенно достиг полной власти, основанной на полном подчинении себе общественного мнения; понадобилось Маренго, чтобы довершить дело Брюмера.