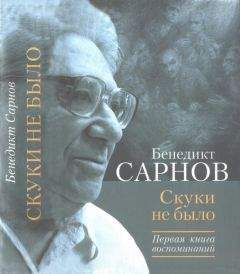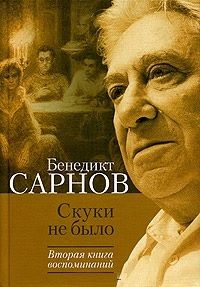Бабушка, ни слова не говоря, ушла и минут через десять вернулась. Проходя мимо нас, она суетливо раскрыла кошелку и показала нам: вместо сахара там теперь был пакет с какой-то крупой и бутылка подсолнечного масла.
Второй нарушительницей оказалась дяди Федина жена — тетя Груша. Во дворе ее все звали Тимофеевна.
Тимофеевна, ничего не подозревая, шла своей быстренькой, семенящей походкой. Подойдя к нам, она даже огрызнулась:
— Ну, чего проход загородили? Ай вам другого места не нашлось?
Женька вышел вперед и сказал:
— Назад, гражданка! Вы второй раз с кошелкой.
Тимофеевна от неожиданности сначала даже не стала возражать. Она остановилась и сказала жалобно:
— Ах ты господи… Что ж теперь делать?
Но потом ей, видимо, наш пикет показался не очень авторитетным.
— Ишь чего выдумали! К себе домой не пускают! А ну!..
Но мы были непреклонны.
Тогда Тимофеевна переменила тактику.
— Борюшка, — сказала она мне, — в другой раз я не пойду… А сейчас уж пусти ты меня, ради Христа…
— Как вам не стыдно! — сказал я. — У вас муж член партии, а вы сеете панику… Создаете затруднения.
Вот тут уж Тимофеевна взъярилась по-настоящему.
— Да пропадите вы все пропадом! — закричала она визгливым, плачущим голосом, выхватила из кошелки какой-то пакет и бросила его нам под ноги. Пакет разорвался, и из него посыпались макароны.
Я был уверен, что если она не постыдится рассказать обо всем дяде Феде, он, конечно, будет на нашей стороне. Но вышло иначе.
Вечером дядя Федя зашел к моей маме и сказал ей, что у Тимофеевны тридцать пять лет трудового стажа и что я еще молод, чтобы срамить ее на весь двор.
— Кто им позволил создавать эти, понимаете, заградительные отряды? Кто им дал указание, я вас спрашиваю? Ах, никто не давал? А вы знаете, как это называется?
Мама засмеялась, и тогда дядя Федя разозлился еще больше:
— Вы не смейтесь, пожалуйста! Авангардизм чистой воды. Я вам как член партии это говорю!
Тут мама перестала смеяться и сказала:
— Не знаю, Федор Игнатьевич, я человек беспартийный, может, я и не права. Только мне кажется, что никакого авангардизма тут нет. Если вы считаете, что ребята ошиблись, поговорите сами с Борей. Поговорите с ним как член партии с пионером. Я думаю, вас он скорее послушается.
Дядя Федя сказал, что он этого так не оставит, но разговаривать со мной не стал. Наверное, понял свою ошибку. А может быть, просто не успел, потому что через два дня я, мама и бабушка уехали из Москвы.
6
Я был так поглощен делами нашего пикета и тем, что мама будет теперь носить командирскую форму и две шпалы в петличке, что даже не очень расстроился, когда узнал, что Житомирский госпиталь находится не в Житомире, а в маленьком городке на Северном Урале. Его туда эвакуировали. Поэтому он и назывался эвакогоспиталем. А может быть, потому, что туда, на Северный Урал, в глубокий тыл, будут эвакуировать тяжелораненых бойцов.
Всю дорогу бабушка изводила меня разговорами о сахаре.
— Это разве теперь дети? — начинала она всякий раз, когда удавалось достать кипяток. — У людей все как у людей! Кто внакладку, кто вприкуску… Одни мы вприглядку пьем! Две пачки у него дома рафинаду… Надолго их хватило, этих твоих двух пачек? Вот и пей теперь пустой кипяток…
Если не считать этих приставаний, в дороге мне все очень нравилось. Нравилось, что мы едем не в обыкновенном поезде, а в товарных вагонах, которые взрослые почему-то называли «теплушки». Нравилось, что останавливаемся не на станциях, а просто где-нибудь в поле и стоим часа три, а то и больше. За три часа можно много успеть. Если б не мама и бабушка, конечно.
На каждой остановке у нас происходил примерно такой разговор:
— Боря, ты куда?
— Там костер, картошку пекут…
— Нечего тебе туда ходить! Еще отстанешь от эшелона, где мы тебя тогда найдем?
Это я-то отстану!.. Лучше бы о себе побеспокоились. Я в крайнем случае могу и на ходу в последний вагон запрыгнуть.
Но больше всего мне нравилось, что мы едем, и едем вот уже шесть дней, а конца нашему путешествию не видно.
И все-таки, когда мы наконец приехали, я обрадовался.
Этот город был совсем не похож на те города, в которых мне приходилось бывать раньше. Даже имя у него было чудное, не похожее на обыкновенное. Он назывался Надеждинский завод. Как будто весь город состоял только из завода.
Вообще-то говоря, так оно и было.
Но в первый день меня поразило и бросилось мне в глаза совсем другое.
Мы приехали вечером. Мама оставила меня и бабушку на вокзале с вещами, а сама куда-то ушла и долго не возвращалась. Потом она вернулась, держа в руках какую-то бумажку.
К нам подошел веселый старик в ватнике и в брезентовых рукавицах.
— Ну как, поехали? — спросил он, как будто уже давно сговорился с нами и только ждал, когда мы наконец будем готовы.
— Поехали, — сказала мама, близоруко вглядываясь в бумажку. — Улица Сакко и Ванцетти, четырнадцать…
Старик беспомощно заморгал.
— Это, надо быть, третья линия будет, — загадочно сказал он, покидал наши вещи в телегу, и мы тронулись.
Третья линия оказалась улицей Карла Либкнехта и Розы Люксембург.
Когда выяснилось, что мы приехали не туда, старик ничуть не растерялся. Скорее даже, наоборот, обрадовался.
— Стало, наша будет аккурат седьмая, — радостно уверял он.
Проездив еще немного по городу, мы наконец добрались до улицы Сакко и Ванцетти и разыскали предназначавшуюся нам комнату.
Мама и бабушка стали устраиваться, разбирать вещи. Меня на время оставили в покое.
Я вышел на улицу и огляделся.
Это была очень ровная и довольно широкая улица с одинаковыми двухэтажными деревянными домами.
Внезапно темный край неба осветился яркой вспышкой. Пламя задрожало и погасло, оставив медленно угасающую, неровную огненную черту.
— Ой, что это?! — крикнул я.
— Шлак вылили, — спокойно сказал за моей спиной чей-то голос.
— А-а-а, — протянул я понимающе, как будто знал, что такое шлак и для чего его выливали.
Огненная река вспыхнула в последний раз, стала темно-багровой и погасла, на этот раз уже совсем. Сразу потемнело, хотя в окнах домов по-прежнему горел свет.
Здесь не было затемнения, и в окнах горел свет, и оконные стекла не были заклеены крест-накрест полосками газетной бумаги.
Я оглянулся.
Рядом со мной стоял щупленький, низкорослый мальчишка.
— Ты в каком классе? — спросил я просто так, чтобы что-нибудь сказать.
— В седьмой пойду, — сказал он.
Я удивился. Значит, мы с ним в одном классе. А на вид можно было подумать, что он в пятом, от силы в шестом.
— Ты в девятой школе будешь учиться? — спросил он.
Я сказал, что не знаю. Тогда он предложил:
— Айда завтра в девятую записываться.
— Айда! — сказал я. — А далеко?
— Не-е, близко… Сразу за Белой Речкой. Километра четыре, не боле. Зато там все наши ребята будут. Раньше я во вторую ходил — туда теперь раненых положили, в госпитале мест не хватает. А в двадцать пятой ремонт.
Он говорил «положили» и «ремонт». Я даже не сразу понял, что это за штука такая — «ремонт»…
7
Утром мама мне сказала:
— Боря, ты, наверное, забыл? Сегодня первое сентября. Я узнавала, тут недалеко от нас школа номер шестнадцать. Очень хорошая школа, лучшая в городе. Я по пути зайду и запишу тебя…
— Ничего я не забыл! — буркнул я. — И не надо меня записывать. Я уже договорился, я в девятой школе буду учиться. Там все наши ребята.
— Какие ребята? — удивилась мама. — Ты же все равно никого не знаешь… И это, наверное, где-нибудь у черта на куличках…
— Нет, мама, я уже знаю, я вчера познакомился. Это совсем близко, прямо за Белой Речкой…
— Ну, в девятой так в девятой, — сказала мама. — Вот твоя метрика и справка о переходе в седьмой класс. Только смотри, обязательно сделай это сегодня, слышишь, Боря?
— Слышу, — сказал я, — обязательно сделаю.
Вчерашний мальчишка уже слонялся по улице, ожидая меня. Утром, при свете, оказалось, что он рыжий. У него были рыжие волосы, белые брови и короткие белые ресницы. Звали его Петька, Петька Ивичев.
Всю дорогу он рассказывал мне про белореченских ребят, которые издавна враждуют с городскими и, возможно, даже сегодня устроят нам засаду. Я уже стал было раскаиваться, что так легкомысленно согласился идти записываться в эту чертову девятую школу. К тому же я и не подозревал, что четыре километра — это так далеко.
Во дворе школы толпилось человек пятнадцать ребят. Увидев нас, один из них закричал:
— Петух! Рыжий Петух пришел!
Это, безусловно, относилось к Петьке. Петька сразу же растворился в толпе, и я остался один.