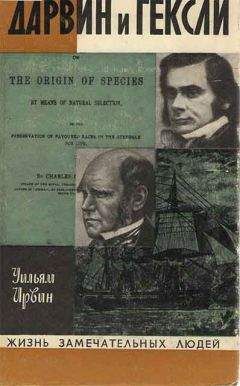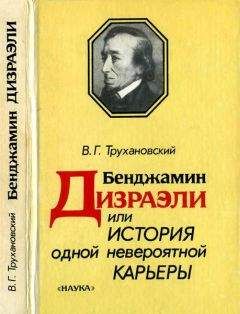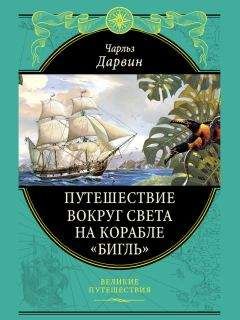«У нас был откровенный разговор о посвящении в духовный сан, — писал его однокашник Дж. М. Герберт, — мы коснулись вопроса, который задает при рукоположении епископ. Веруешь ли, что ты движим духом святым, и т. д. И он, помнится, спросил, могу ли я ответить утвердительно, а когда я сказал, что нет, заключил: „Вот и я — нет, стало быть, мне нельзя в священники“».
Сомнения эти — отклик чуткой совести на недостаток религиозного рвения и приверженности к церкви — никогда не принимали достаточно острой формы, чтобы толкнуть его на прямые действия. Чарлз стрелял бекасов, собирал жуков, постукивал молотком по камням и верил в бога. Но преимущественно стрелял бекасов. «В ту пору, — писал он через много лет, — я счел бы чистым безумием пропустить ради геологии или иной науки первые дни охоты на куропаток».
В 1831 году он благополучно получил свою степень в Кембридже. О посвящении в духовный сан ни он, ни его отец больше не заикались. Дело в том, что Чарлз прочел «Путешествие» Гумбольдта и теперь мечтал о тропических лесах и о поездке хотя бы на Канарские острова. И надо же было случиться, чтобы именно в это время Генсло рекомендовал его как естествоиспытателя на английский бриг «Бигль» — скорлупку водоизмещением в 242 тонны, которая на пять лет уходила в плавание в основном для того, чтобы обследовать берега Южной Америки. Вот оно, приключение, достойное Гумбольдта, — Канарские острова, сущий рай! Правда, сначала его не отпускал отец. А капитану Фицрою чем-то не понравилась форма его носа. Но даже эти препятствия были устранены. Дядя Джозайя по собственному почину прислал его отцу письмо, советуя отпустить племянника. Чарлз, немало преуспевший в мотовстве за годы жизни в Кембридже, попытался утешить отца:
— Надобно редкое искусство, чтобы на «Бигле» расходовать более того, что получаешь.
Доктор Дарвин усмехнулся.
— Что же, ты у нас, говорят, большой искусник.
И дал свое согласие.
По приезде в Плимут Чарлз должен был два месяца дожидаться «Бигля». И как раз тогда впервые серьезно занемог.
«Я был подавлен сознанием, что на столь продолжительный срок покидаю родных и друзей, к тому же и погода стояла невыразимо унылая. Меня мучило сердцебиение и боль в сердце, и я не первым среди юных невежд, оснащенных лишь зачатками медицинских познаний, был уверен, что у меня сердечная болезнь. Врачу я не показывался, боясь услышать, что не гожусь для путешествия, а я был намерен ехать во что бы то ни стало».
Можно смело сказать, что в те дни у него скорей всего никаких неладов с сердцем не было, потому что за время плавания оказалось, что он обладает необыкновенной физической выносливостью.
Когда 27 декабря 1831 года «Бигль» вышел в море, Чарлз Дарвин был на борту.
«Бигль» в разрезе. Цифрой I обозначено место Дарвина в капитанской каюте.
Плавание Дарвина, бесспорно самое знаменитое из великих путешествий первооткрывателей, было во многих отношениях наименее героическим. Ничего особенного, если взглянуть со стороны: морская болезнь, тоска по дому — и тихий симпатичный молодой человек, по всей видимости задавшийся целью упрятать в склянки весь Южно-Американский континент. Однако внутренне он переживал нечто небывалое, потрясающее, грандиозное, как создание палаты общин или развитие кабинетной системы правления. Тем более что успех его был тоже счастливым итогом союза меж талантом и случайностью. Дарвин выгадал даже от своего невежества, так как оно, по крайней мере, было глубоким и всеобъемлющим. Над ним в отличие от Гексли не тяготело бремя основательной медицинской подготовки, ограничивающей поле его исследований медузами и сальпами. Он откапывал великанов-мегатериев так же храбро, как вскрывал морских червей. Он размышлял о континентах так же непринужденно, как о мелких кристаллах. А время приспело как раз такое, когда требовалось мыслить широко. Главное же, он был не слишком сведущ в богословской, доляйелловской геологии катаклизмов. Генсло напоследок посоветовал ему купить книжную новинку, первый том «Основных начал геологии» Ляйелла, внимательно прочесть и ни в коем случае не верить. Чарлз купил, прочел и поверил. Он вовсе не собирался верить, но первый же клочок земли, который он увидел, — Сант-Ягу в архипелаге Зеленого Мыса — неопровержимо подтвердил, что Ляйелл прав. Чарлз сошел на берег и открыл новую геологию.
В длинной, тонкой, непрочной цепи, ведущей к «Происхождению видов», «Начала», может быть, самое важное звено. Ляйелл научил Дарвина не только мыслить в области геологии, но и мыслить вообще. От него Чарлз научился наблюдательности в высшем смысле слова — мышлению, создающему и проверяющему гипотезы. И еще он узнал, как нужно строить гипотезы. Другими словами, он стал видеть природу логичной, последовательной, внутренне обусловленной. Лишь по самым важным и торжественным случаям ее следует, по выражению кардинала Ньюмена, «сводить к заданной схеме». В прочих случаях ее всегда следует «выводить из первоначальных физических причин». И наконец, он усвоил генетическую, или эволюционную, точку зрения, ибо из всех естественных наук исторический метод тогда шире всего применялся в геологии.
Высшие прозрения его южноамериканского путешествия почти все связаны с геологией. Поднимаясь по долине реки Санта-Крус, где весь западный горизонт загромоздили убеленные снегами Анды, Дарвин был ошеломлен догадкой, что лава, венчающая могучие утесы, была, вероятней всего, извергнута вулканами из глубин моря. А ведь горы служат олицетворением вечности! О более молодой и высокой горной цепи Кордильер он пишет прямо-таки со снисходительностью. Время — вот что по-настоящему поразило его воображение; время, зримо указанное медлительными часами геологии, песком и камнем. А время для викторианского мышления было то же, что святой дух для средневекового богословия: невидимое присутствие, которое делает возможными любые чудеса. Пусть только невозможное совершается постепенно, упорядоченно, в достаточной мере объективно — и оно становится вполне вероятным.
Какое же это «невозможное» так взволновало Дарвина? У него в голове, надо сказать, тоже совершалось нечто вроде геологического процесса, так как он обладал мышлением, которое Уолтер Бейджот[42] в своем очерке «Сэр Роберт Пил» назвал «наносным». В таком мозгу мысль созревает до того медленно, что поначалу чудится, будто ее почти и нет, а потом начинает казаться, что она была там всегда. За время долгого путешествия на «Бигле» крохотные песчинки, фактов мало-помалу откладывались на дне дарвиновского сознания, образуя весьма тревожные напластования мысли.