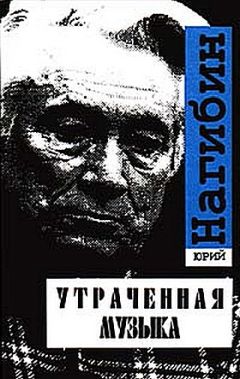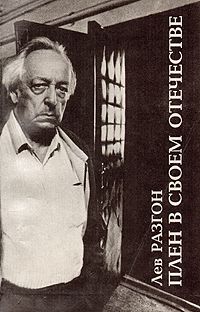Утром звонок из Кохмы – М. заболел. Неотвязная мысль о том, что крошечный человек мучается в гнусной Кохме, в полном одиночестве, подлое ощущение своей дрянности и сухости – ехать-то мне не хочется. Затем поход к Цигалю – ненужный, выбивающий из колеи. Потом люди, один другого ненужней… Затем, словно впервые, увидел я Веру. Похожа на грязную половую тряпку, мятая, бескостная, такая дряхлая, что больно смотреть. Единственный упор в ее теле создал радикулит, искривив и выпятив какую-то кость в области поясницы. Кажется, исчезни этот упор, порожденный болезнью, и она сомнется, скомкается, как груда старого тряпья. Жалко ее очень, и ничего нельзя поделать. Так и будешь следить равнодушно (к сожалению, не до конца равнодушно) за умиранием близких людей. И нельзя ни просьбами, ни слезами, ни силой удержать их от смерти.
А вечером около забегаловки, куда я попал по милости своего безволия, пьяненькая, маленькая, не старая бабенка говорила, дожевывая кусок вареной колбасы:
– Я пьяная! Так ведь у меня выходной. Я, думаете, плохая? Нет, я хороший, рабочий человек.- И помолчав.- Пойдемте ко мне.
Сказалось это не из похабства, а из простого, искреннего желания и веры, что сегодня всё будет у нее хорошо. Она совсем не была противна, хоть и убогая, жалкая. И я ее так хорошо понимал: выпила, разогрела сердчишко. Я бы пошел с ней, если бы не трусость.
Но страшен день был не людьми, даже не мыслями о М.,- ощущением полного банкротства, и моего собственного, и тех, кого я люблю, банкротства, за которым один путь – в яму.
3 ноября 1951 г.
Сегодня я с удивительной силой понял, как страшно быть неписателем. Каким непереносимым должно быть страдание нетворческих людей. Ведь их страдание окончательно, страдание «в чистом виде», страдание безысходное и бессмысленное, вроде страдания животного. Вот мне сейчас очень тяжело, но я знаю, что обо всем этом когда-нибудь напишу. Боль становится осмысленной. А ведь так, только радость имеет смысл, потому что она радость, потому что – жизнь. Страдание, боль – это прекращение жизни, если только оно не ста-
58
новится искусством, то есть самой концентрированной, самой стойкой, самой полной формой жизни.
Как страшно всё бытие непишущего человека. Каждый его поступок, жест, ощущение, поездка на дачу, измена жене, каждое большое или маленькое действие в самом себе исчерпывает свою куцую жизнь, без всякой надежды продлиться в вечности.
Жуткая призрачность жизни непишущего человека…
Износились костюмы, обветшали декорации, стерлись слова, как старые пятаки, актеры смертельно устали,- уныло, без увлечения и таланта, без темперамента и страсти, играют они в миллионный раз дрянной спектакль – «человечество».
Утро человека начинается бурной физиологией. Человек гадит, мочится, издает звуки, харкает и кашляет, чистит протухшую табачищем пасть, вымывает гной из глаз и серу из ушей, жрет, рыгает, жадно пьет и остервенело курит.
Насколько опрятнее пробуждение собаки.
Тяжелое хамство дремлет в моей груди.
Не осталось ничего, лишь скучная, бессильная злоба.
Ни один перезревший, прогнивший, источенный червями плод не был так достоин уничтожения, как нынешная форма нашего существования.
Как измельчало представление о силе и универсальности человеческого гения! Леонардо да Винчи, предлагая свои услуги герцогу миланскому Лодовико Моро, писал: «Знаком с механикой, архитектурой, баллистикой, химией, астрономией, математикой, артиллерией, искусством вести оборону и осаду крепостей, пиротехникой, строительством мостов, тоннелей, каналов, а также могу рисовать и ваять наравне с кем угодно».
«К тому же,- добавляет историк,- Леонардо божественно пел, играл на лютне, сочинял стихи и музыку, гнул подковы, ломал в пальцах серебряные монеты, а также изобрел и построил первый летательный аппарат».
– Кажется, это человек способный,- рассеянно сказал герцог Миланский и распорядился принять Леонардо на службу.
За последние месяцы детское радиовещание передало три очерка Я. С.: о производстве фарфора, о строении биосферы и составе почвы.
– Знаешь, Яша,- сказала мама, озабоченно покусывая губы,- такая универсальность может показаться подозрительной. Человеку не дано объять столько вещей…
И что бы вы думали? Показалась! И перед Я. С. захлопнулась очередная кормушка.
Есть радиопередачи для молодежи, есть «Пионерская зорька», есть передачи для маленьких, для самых маленьких, для таких маленьких, что о них и говорить-то не стоит, и, наконец, передача для зародышей с эмбриональным названием «Тритутик».
4 апреля 1952 г.
Вот и случилось то, чего я всегда ждал, как самого страшного, и все-таки ждал. Может быть, для того, чтобы узнать всю меру своей подлости, даже не подлости, а эгоистической наивности. И всё же, я никак не думал, что это так тяжело, и настоящим эгоистом быть – кишка тонка. Утром, когда солнце пробивалось сквозь штору, и комната была похожа на детскую,- пришла телеграмма: «Ваш отец умер сегодня ночью». Как будто при всех хлестнули по морде грязной метлой – ощущение ошеломляющее по своей наготе и грубости. Как они осмелились написать слово «умер»?
А потом опять ужасное по безысходности чувство: где-то была допущена ошибка, всё еще можно было исправить, страшная ошибка, когда мы вдруг выпускаем из рук жизнь близких людей. Настоящей, самоотверженной любовью можно удержать близкого, родного человека на земле, как бы он не склонялся к смерти. Если б я поехал, если б он знал, что я его люблю, как я это знаю сейчас, какие-то неведомые силы удержали б его в жизни, несмотря на склерозированный мозг, несмотря на больное, усталое сердце. Я его предал. Он это почувствовал бессознательно и отказался от жизни. Всё остальное делалось формально, санатории и больницы не спасут, если человек решил умереть.
И в этом смысле мое второе предательство – то, что я не поехал его хоронить,- уже не играет роли.*
Вот и кончилось то, что началось дорогой в Кандалакшу, когда я вновь обрел то странное, острое, непонятное, значительное, что заключено в слове «отец». Считается, что отцовское начало – сильное. Для меня это всегда было иным: мягким, страдающим, спасающим от последней грубости. Я должен быть ему благодарен больше, чем любой другой сын – своему отцу, кормившему, поившему, одевавшему его. Я его
____________________
* Хоронить М. поехала моя жена Лена. У меня был рецидив того заболевания, каким меня наградила контузия.
кормил, поил, одевал. В этом отношении мое чувство совершенно свободно. Но благодаря ему я узнал столько боли всех оттенков и родов, сколько мне не причинили все остальные люди, вместе взятые. Это единственная основа моего душевного опыта. Всё остальное во мне – дрянь, мелочь. Но маленькая фигурка за колючей проволокой Пинозерского лагеря, маленькая фигурка на Кохомском шоссе, у автобусной остановки на площади Заменгофа, голос по телефону, слабый, словно с того света, душераздирающая печаль кохомских общественных уборных, проводы «до того телеграфного столба» и взгляд мне в спину, который я чувствовал физически, даже когда сам он скрывался из виду,- это неизмеримо больше, чем самый лучший отец может дать сыну.