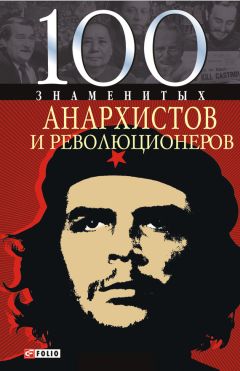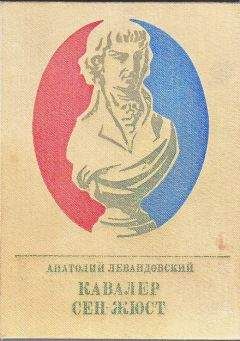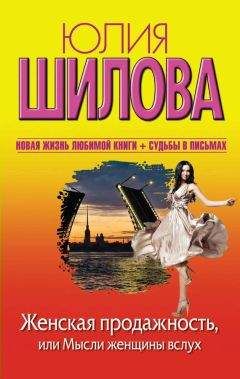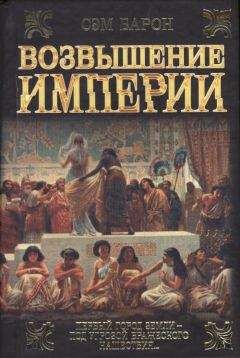Этот убийственный приговор правящему классу, очевидно, нуждается в оговорках и уж, конечно, не может быть распространен на всех участников революции. И у них, как у тех, кто борется против движения, исступление кризиса все довело до крайности; слабых развратило, дурных людей сделало преступниками, хороших подняло до подвигов; если революция разверзла бездны безнравственности, зато она открыла и высокие вершины добродетели и бескорыстия. И в эпоху, директории, когда число искренних республиканцев сильно сократилось, революция сохраняет верующих и благоговейно преданных ей приверженцев; администраторы одного округа говорят о ней: “наша святая Революция”.[120] Даже вне армий, этой школы суровой и прекрасной энергии, мы видим много примеров гражданского героизма, принесения себя в жертву высшему принципу; а в некоторых группах удивительную стойкость философского идеала, усилие выработать себе нравственный закон вне всяких религиозных концепций, сердца, истинно любящая добродетель римского образца, и души стоиков.
В этой Франции, столь разнообразной, еще кипящей на поверхности, недвижной и приниженной в глубине, существует ли какое-нибудь общее стремление? Есть ли такой вопрос, относительно которого все бы сошлись? Да, ибо среди управляемых, за исключением агитаторов крайней левой и крайней правой, все желают внешнего мира, мира вообще, прекращения войн, с 1792 года порождающих одна другую. Это кажется первым средством от всяких зол, продолжающих угнетать народ. Во имя внешней опасности, революция потребовала и продолжает требовать от страны неслыханных жертв деньгами и людьми; война больше, чем все другое, сделала ее свирепой и кровожадной; благодаря войне и посредством ее партии усиливаются поддерживать волнение внутри страны.[121] Надеются, что с заключением мира все может понемногу смягчиться, вновь наладиться, принять устойчивую форму. От мира, впрочем, ждут и непосредственных ощутительных выгод: с миром исчезнет потребность в исключительных законах или предлог вводить их, облегчатся общественные повинности, тысячи рук снова возьмутся за плуг, границы откроются для обмена товаров, порты будут свободны, промышленность вновь начнет работать на заграницу – и Франция жаждет всех этих воскресений, жалобно призывает их. Мир – надежда хижин, надежда мастерских, надежда салонов, надежда рабочего люда и тех, кто, задыхаясь от усталости, все еще волнуется и мечется в погоне за наслаждением, надежда чувствительных сердец и друзей человечества, надежда благоразумных политиков, чувствующих, что государственная пружина готова сломаться от чрезмерного напряжения. Мир – это слово принимает в воображении народа необычайно широкий смысл, бесконечно много охватывающий, и в то же время соответствующий своему естественному значению; для всех вообще оно означает возможность жить спокойно: отдых нервам и сон.
Этот мир, о котором так молит страна, может ли он быть посредственным или невыгодным, перед лицом коалиции врагов, всегда побеждаемой и, все-таки, живучей? Примет ли она его таким? Согласится ли на мир без сохранения и обеспечения добытого победами? Вынесет ли такое разочарование патриотизм, как понимала его революция?
Революция не создала патриотизма; она только выделила его из монархической идеи и вместе с тем популяризировала, распространила в массах. Более общечеловеческая, чем французская, по своему первоначальному замыслу она очень скоро под давлением обстоятельств, перешла в острый подъем национального чувства. Французская национальность и до того существовала века; в 1789 г., в момент сильнейшего брожения, она почувствовала себя, сознала свою силу; смутное согласие отдельных частей сменилось страстной потребностью сплотиться в одно целое, федерацией воль. В 1792 и 1793 гг. революция отождествилась с делом национальной независимости, затем отождествилась с вторжением французов в другие страны, расширением границ, завоеванием естественных пределов. Провозгласив нацию, она своими победами сделала ее великой нацией, и Франция вначале упивалась этим словом; она гордилась своими армиями и рядилась в свои триумфы, словно хотела прикрыть; этим плащом славы свои зияющие раны, лохмотья и нищету.
В данный момент в тех, кто телом и душой предался революции, кто мнит руководить ею или служить ей, упорно живет мысль о естественном призвании нашей расы к первенству, к наследованию величия римлян, к повелеванию народами; французский империализм, которого император является лишь высшим выражением. В остальной же нации, по мере того, как гаснет революционная пыль, колеблется и патриотизм. В Париже, в театрах, в кафе, на светских сборищах, на прогулках, патриотизм уже не в моде, как и революционная добродетель: “Наши злоключения не вызывают ни радости, ни тревоги; читая отчеты о наших сражениях, словно читаешь историю другого народа”.[122]
Попробуем спуститься ниже и заглянуть в самую глубь народной души; неужели от былого патриотического жара не осталось и следа? Внезапные вспышки этого великого огня покажут нам, что он лишь притаился под пеплом апатии. Народ смутно чувствует, что Франция после стольких мук и трудов должна выйти из своих испытаний с честью и мощью, выйти более сильной и радостной, материально и нравственно выросшей. Ряд внешних неудач, приблизивших неприятеля к нашим границам и вновь поставивших все на карту, окончательно поверг бы в уныние общество; чтоб ободрить его, нужна, наоборот, решительная победа, носящая в себе залог мира и упрочения уже достигнутых результатов; в особенности обрадовались бы такой победе, которая была бы ударом для ненавистной Англии, ибо тогда сразу иссяк бы самый источник войн.
То, что творится внутри страны, всем внушает глубокое отвращение, но в общественном мнении все же не заметно движения в пользу иного строя. В своих неизданных мемуарах Камбасерэс говорит, что революция “всем опротивела”,[123] кроме тех, кто ею живет; сюда надо прибавить еще тех, кто живет для нее. Революция всем опротивела, а между тем, кроме эмигрантов и их приверженцев внутри страны, никто не требует полного ее упразднения. Каждый хотел бы что-нибудь сохранить от нее. Почти все без исключения французы с ужасом отнеслись бы к восстановлению кастовых привилегий, материальных и денежных, почетных отличий. Франция проникнута страстью к равенству. “Нет такого мелкого лавочника, над которым мог бы безнаказанно превозноситься де-Монморанси”.[124] В среде буржуазии Парижа и других городов, класса, который первый поднял знамя революции и теперь ненавидит ее в ее результатах, т. е. тирании директории, еще жив дух 1789 г., но износившийся, одряхлевший, какой-то униженный либерализм. Идеалом этого класса была бы ограниченная королевская власть с народным представительством, признающая права человека и до известной степени гарантирующая их, но он отлично примирился бы и со “свободной республикой”.[125]