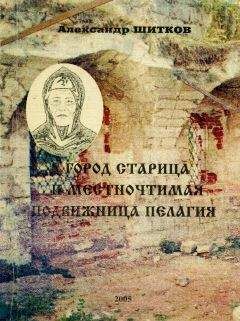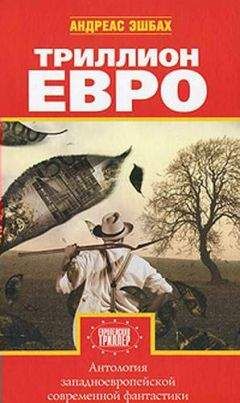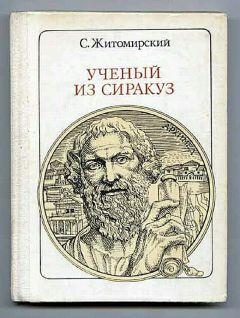Когда дурные люди волновали народ против царя Василия Ивановича Шуйского, Старицкий архимандрит уговаривал беспокойных людей помнить, что они христиане».89
События Смуты развивались по своей внутренней диалектике. Летом 1607 года объявился Лжедмитрий II, когда Крестьянская война под руководством Ивана Исаевича Болотникова уже затухала. Новый самозванец Дмитрий вошел в историю как «тушинский вор» или «таборский царь».
История не донесла до нас неоспоримых данных о происхождении «второлживого» самозванца, хотя после принятия им имени «царевича Дмитрия» его биография достаточно хорошо описана современниками. Поэтому до сих пор исследователи ведут безуспешный спор о действительно неоспоримой родословной «тушинского вора».
Никто в точности не знал, кем же был новый самозванец. Сохранившиеся документы не проливают полный свет на «темные» места его биографии. Власти царя Василия Шуйского презрительно именовали появившегося на южных рубежах Российского государства опасного противника «стародубским вором». Затем, когда тот перебрался с войском под стены царственной Москвы, в правительственных грамотах и на словах — «тушинским вором».
К началу 1609 года «тушинский вор» через свои разосланные во все концы отряды контролировал огромную территорию. Старичане не захотели подчиняться Лжедмитрию II. Вскоре польский пан Зборовский и изменник князь Шаховский со своими войсками направились для расправы с непокорными. После взятия города-крепости Зубцова грабительское войско в полночь подошло к Старице. Воспользовавшись темнотой и перерезав часовых, нападавшие отворили ворота. «Малочисленные защитники и жители города, застигнутые врасплох, растерялись; после недолговременного сопротивления разбежались по церквям, где и были истреблены, а город сожжен и разграблен»- пишет об этих событиях монастырский патерик.90 После этого страшного набега город Старица долгое время находилась в руках поляков и только по Столбовскому миру 1617 года возвращена России.
О разрушении Свято-Успенского монастыря в Старице поляками в 1608 году и судьбе монахов сведений не сохранилось. Монастырский архив оказался в Москве. Вполне возможно, в ту кровавую ночь архимандрит Дионисий вместе с уцелевшими монахами сумел унести часть архива из обители.
Известно, что архимандрит Дионисий почти в это время находился при Патриархе Гермогене и «весьма много действовал на народе своими увещаниями от божественных книг».91 В «Историческом описании…» игуменом Арсением говорится, что «Дионисий ездил в Ярославль на погребение какого-то вельможи, и на возвратном пути, 19 Июня 1610 года получил патриаршую грамоту о перемещении его в архимандрита Троицкой Сергиевой Лавры…»92
К этому времени, бесплодные политические страсти, бушевавшие на Руси, не миновали и Троице-Сергиеву обитель. Дни. переживаемые Московским государством в действительности, были полны непредсказуемости, и только чудо, как полагали многие, могло спасти Россию, развеять отчаяние, которое поселилось в людях нестойких, «мнеша на Руси православию уже не бытии».
Как же определить ту грань, которая отделяла Отечество от пропасти, как перебороть стыд, который скрывался в каждом поднявшем руку на святотатство, где найти исцеляющее средство от греховных деяний? Такие непростые вопросы мучили архимандрита Дионисия, когда польское войско, возглавляемое воеводой Сапегой и Лисовским, подошло к монастырю.
Самолюбивые и властные воители жаждали славы, легких побед, богатства и рассуждали так: Москва, раздираемая противоречиями изнутри, не сегодня-завтра падет к ногам новоявленного Лжедмитрия II. Пока же можно вволю потешиться над смиреной обителью. Про ее славу и богатства ходили легенды, которые пьянили ловцов наживы, словно молодое вино. И хотя в речах изменивших России раздавались предупреждения, что монастырь вовсе не приграничный острожек, — это не принималось ими в расчет: перед всекрушающей силой многочисленной рати должны рухнуть любые стены.
23 сентября, когда монастырь, по традиции, готовился к Сергиеву дню, войска Сапеги и Лисовского подошли к обители. С кем же им предстояло скрестить оружие? Число монашеской братии едва достигало трехсот человек. К ним присоединились крестьяне из ближайших вотчин монастыря, богомольцы, прибывшие на поминальные торжества, и только воевода князь Григорий Борисович Долгорукий и дворянин Алексей Иванович Голохвастов знали твердо, что у них под рукой не более двух с половиной тысяч воинов.
Посягнуть на святыню земли Русской не решался даже тать, не потому ли в предприятии «семени еретично и лютерн окаянии» отказались участвовать казачьи атаманы Степан Епифанец и Андрей Волдырь, ушедшие со своим воинством из-под монастыря.
Тем не менее, беда от этого не уменьшилась, а лишь только усилилась огромной скученностью людей, которые не полагали, что окажутся в осаде. Это слово теперь было на устах, как у врагов, так и в самом монастыре. Одни произносили его злобно и кровожадно, для других оно выражало надежду на избавление. Но приблизить его осажденные могли только собственными силами. Ратное мастерство дворян, стрельцов, иноков, крестьян сомнений не вызывало — с помощью оставшихся в обители любой приступ мог быть отбит. Гораздо сложнее, оказалось, разрушить атмосферу безысходности, которая словно паутина, оплела обитель.
Архимандриты Троице-Сергиевого монастыря Дионисий и Иоасаф прилагали к этому немалые усилия. Несмотря на обстрелы и приступы, обитель жила по заведенному распорядку с молебнами, звоном колоколов, крестными ходами, празднествами, но на них лежала прочная печать тревоги за дальнейшую судьбу.
Казалось, не существовало на свете таких испытаний, через которые не прошел бы Троице-Сергиев монастырь за долгие пятнадцать месяцев осады.
Рать Сапеги и Лисовского обстреливала монастырь калеными ядрами, вела подкопы, не позволяла пробиться к нему ни конному, ни пешему, а в лютую стужу пресекала всяческие попытки добыть дрова. Трудности воинской жизни тесно переплелись с бытовыми, а когда цинга стала вырывать одного за другим защитников и уносить в могилу десятки жителей, некоторые сочли, что наступил предел страданиям, и решились на измену. Сохранившееся письмо того времени Ксении Годуновой, любимой дочери царя Бориса, написанное в осажденном монастыре, говорит о тяжелом положении защитников: «с часу на час ожидаем смерти, потому что у нас в осаде шаткость и измена великая…»93 Иудины сыны не сумели нанести вреда обители, но в памяти соотечественников осталась глубокая отметина, которую до сих пор хранит в своем названии одна из деревень невдалеке от Лавры.