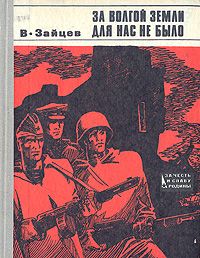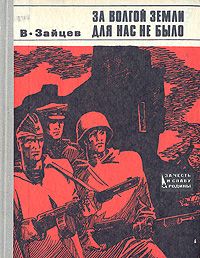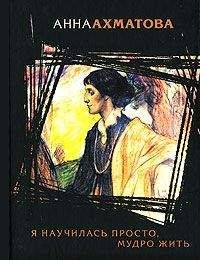обсуждает общеидеологические проблемы («Если он прочно не стоит на марксистской идеологии…»); историк советской литературы А.И. Хватов — профессиональные, связанные с советской литературой, с творчеством Маршака (которого, он, правда, спутал с Пастернаком. Видно, составляя дома речь, чувствовал он зыбкость своих положений, вспоминая судьбу Пастернака, боялся невидимого оппонента, который может ему этого Пастернака припомнить. Словом, мешал ему Пастернак, и вот — вылез нечаянно, — впрочем, по установленному выше закону: «Что тот еврей, что этот») и Заболоцкого («
можно ли считать исследования Эткинда научными? — Нет!»); еврей К.М. Левин (которого никто из работников института не знает
— видимо, откуда-то его пригласили на гастроли)
— о еврейском вопросе («В этом письме Эткинд призывает с оружием в руках — или без оружия
— бороться с советской властью» — так как же, все-таки, с оружием или без?); специалист по начальной педагогике семидесятилетняя А.А. Люблинская — о воспитании юного поколения («Как эти молодые люди растут у нас на глазах! И вот появляются люди…»), историк коммунистической партии Фураев — о политической грамотности («У Эткинда было политическое кредо…» — было! Как на похоронах), методист литературы А.М. Докусов, опытный громила, обеспечивший себе доверие органов еще в былые годы — единственный представитель старых литературоведов (у Докусова есть книжка о Лермонтове).
…бессмыслицы оратор,
Отмени о вял, отменно скучноват.
Тяжеловат и даже глуповат…
Пушкин. Эпиграмма
Восьмидесятилетний Александр Максимович Докусов за многие годы преподавательской и научной деятельности не обнаружил никаких дарований — ни литературных, ни лекторских. Студенты старались на его лекции не ходить, о серости своих книг и статей он, видимо, догадывался сам. Так он и пробавлялся не столько наукой, сколько ее имитацией, называемой «методика преподавания литературы», пока не наступила блаженная полоса — 1949 год, когда была дана команда — «до конца разгромить буржуазных космополитов и эстетов», главная цель которых в том, чтобы «принизить советскую литературу, помешать ее дальнейшему развитию, сбить с ног людей талантливых, способных создавать новые произведения, нужные народу… Космополитизм служит проводником реакционных буржуазных влияний» (это — цитаты из доклада Анатолия Софронова на партийном собрании в Союзе писателей СССР, опубликованного в журнале «Знамя», 1949, № 2, стр. 168–176).
То были призывы к антисемитскому погрому, который превратился в разгром интеллигенции. Докусов взыграл: наконец-то он получил нечаянную возможность безнаказанно (так в то время казалось!) расправиться с теми, кому он до сих пор мучительно и безнадежно завидовал, кого именовал вслух шарлатанами и фокусниками, понимая, однако, про себя, что эти ненавистные ему и не пускающие его на порог Эйхенбаум, Жирмунский, Гуковский, Томашевский — блестящие таланты, которые весь окружающий их мир делают праздничным. Вокруг него, Докусова, всё было всегда серо, буднично и уныло. Статьи, написанные Докусовым в 1949 году, клокочут долго сдерживавшейся ненавистью, которая вдруг вырвалась наружу. Но — вот беда! Даже ненависть не способна окрасить докусовские писания хоть тенью таланта. У людей одаренных злоба стимулирует яркость стиля, сообщает ему блеск неожиданности и обаяние открытого темперамента. Докусов, даже ненавидя, не умел быть оригинальным, писал унылыми штампами, и это, вероятно, бесило его еще больше. Вот, например, в статье 1949 года, весьма оригинально озаглавленной Против клеветы на великих русских писателей (журнал «Звезда», 1949, № 8), он обличает Б.В. Томашевского и Б.М. Эйхенбаума — за их примечания к сочинениям Пушкина и Лермонтова; оба комментатора позволили себе указать в ряде случаев иностранные источники русских классиков. Приведя ссылку Б.В. Томашевского на то, что в пушкинской Сказке о попе и работнике его Балде сюжет о найме работника за три щелчка связан с одной из сказок братьев Гримм, Докусов пишет:
«Можно пожалеть незадачливого истолкователя Пушкина, но нельзя спокойно пройти мимо такого истолкования русской литературы. Надо сказать полным голосом, что примечания Б. Томашевского — клевета на светлое имя Пушкина, клевета на народ, давший поэта, имени которого приносят дань благоговейного уважения лучшие люди мира» (стр. 184).
И вся эта декламация — по поводу Балды и его возможных родичей у братьев Гримм! Каков вкус! Но это еще далеко не все:
«Пушкин всеми клеточками своего существа — русский, живет жизнью своей страны, своего народа. Его творчество выросло из коренных основ народной жизни… И комментировать Пушкина так, как это сделано в указанном однотомнике — это значит совершенно извратить Пушкина и дезориентировать советского читателя» (стр. 185).
Покончив с Пушкиным и Томашевским, Докусов переходит к Лермонтову и Эйхенбауму. Подобно Томашевскому, Эйхенбаум спрятал свою зловредную концепцию в комментарий, а сводится она к положению: «У Лермонтова все чужое» (стр. 185). Кто же такой Эйхенбаум? А вот кто: «…законченный формалист, эстет и космополит», занимающийся беззастенчивой саморекламой; дальше еще хлеще: «Космополит по собственному „гордому“ признанию, формалист и эстет в литературной науке, с глубоким презрением и даже равнодушием относящийся к великой русской литературе» (стр. 186). Разоблачения Эйхенбаума кончаются чуть ли не приговором:
«Довольно! Читатель вместе с нами испытывает не только гнев, но отвращение к клеветнической стряпне „ученого“ лермонтоведа… Не пора ли положить конец работе черствых педантов по „истолкованию“ наших великих народных писателей; не пора ли разъяснить вредоносный смысл их „изысканий“…» (стр. 189).
Знаете ли, что́ мне живо напоминают эти риторические взлеты классовой ненависти? Эти довольно!.. эти… не только гнев, но и отвращение, эти не пора ли положить конец…? Прокурорские речи Вышинского и Крыленко на процессах вредителей, правотроцкистских центров и прочих контрреволюционеров. Так и ждешь, что Докусов в заключение воскликнет: «Собаке собачья смерть!» Но это ему не было велено, не было позволено.
Подведем предварительный итог. Б.В. Томашевский и Б.М. Эйхенбаум повсеместно — и теперь не только на гнилом Западе, но и в Советском Союзе — признаны классиками филологической науки, и даже эти самые их комментарии (не говоря обо всем прочем) перепечатываются из издания в издание. Их хулитель А.М. Докусов доживает свой позорный век в безвестности, окруженный всеобщим равнодушием и не приобретший даже старческого благообразия: он суетится, постоянно напоминает о себе, и до недавних пор готов был тряпкой лечь под ноги начальства, лишь бы еще потерпели, лишь бы на пенсию не выгнали. Когда Докусов 8 мая 1974 года восклицает: За последнее время мы стали простосердечны и благодушны, за последнее время мы расслабились, притупилось наше зрение — то в его устах это тоска по 1949 году. И, выступая с привычными разоблачениями, А.М. Докусов доказывает самому себе и всем нам, что этот светлой памяти 1949 год не забыт