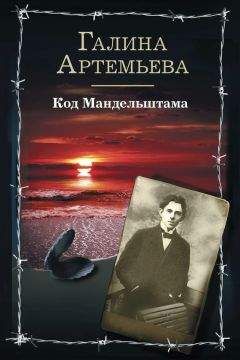Ознакомительная версия.
Блаженное слово — разве оно не от Бога? Блаженное слово благодать для поэта. Но как же далеко до этой благодати!
Поэтому трагичен финал стихотворения:
Где-то грядки красные партера,
Пышно взбиты шифоньерки лож,
Заводная кукла офицера —
Не для черных душ и низменных святош…
Что ж, гаси, пожалуй, наши свечи
В черном бархате всемирной пустоты.
Все поют блаженных жен крутые плечи,
А ночного солнца не заметишь ты.
Удивительное противопоставление: черные души — наши свечи (души).
Свечи гаснут, все поглощает всемирная пустота. Нет больше ночного солнца.
К кому обращается в последних четырех строках стихотворения поэт? Кто его собеседник со светлой свечой души, с кем суждено сойтись в Петербурге? По сообщению О. Н. Арбениной-Гильденбрандт, обращено к ней. Это утверждение оспаривает Н. Я. Мандельштам: «На вопрос, к кому обращено это стихотворение, Мандельштам ответил вопросом, не кажется ли мне, что эти стихи обращены не к женщинам, а к мужчинам»[49].
Скорее всего, так оно и есть. Здесь о женщинах — «они» — отстранение — «все поют блаженных жен родные очи». И есть это дружеское, соратническое «мы», и «ты» — последнее слово в стихотворении. Это «ты» может быть обращено к собеседнику, а может — и к себе самому.
Вполне возможно, что из последних четырех строк — в двух первых он обращается к одному, а в последней — к другому.
«Я в ночи советской помолюсь…» — молитва не услышана, так кажется в пустоте.
Поэтому далее следует безнадежно-смиренное: «Что ж, гаси, пожалуй, наши свечи…»
Мы помним — «Кто знает, может быть, не хватит мне свечи…», где свеча — свет жизни души.
Не к тому ли, к кому поэт обращается с молитвой («За блаженное, бессмысленное слово // Я в ночи советской помолюсь»), относятся слова «гаси, пожалуй, наши свечи»?
Или к року, судьбе?
И ночное солнце уже не заметишь — никто не заметит — ушло с небосклона, похоронили, его больше нет.
Только воспоминание.
Возвращаясь к теме ПУСТОТЫ, стоит сказать несколько слов о психологическом аспекте как одном из важнейших условий создания любого произведения. Появление в творчестве Мандельштама темы абсолютно беспросветной, черно — бархатной ночи (советской), темы абсолютной («всемирной») пустоты свидетельствует о явных симптомах надвигающейся депрессии.
«Когда у человека начинается депрессия, он воспринимает свое жизненное пространство как сузившееся. С потерей остроты чувств изменяется и ощущение своего тела. Это может привести к тому, что собственное тело воспринимается менее одушевленным, чем прежде, а в экстремальных случаях как пустая оболочка, — констатирует доктор медицины Даниель Хелл, профессор клинической психиатрии Цюрихского университета, и отмечает ниже: — Это чувство пустоты я не раз пережил сам во время продолжительных сеансов психотерапии, которые проводил с депрессивными больными»[50].
Сходное ощущение описано Н. Н. Пуниным в дневнике 1919 года: «Эти дни — много горечи в моем сердце. Вместе с потерянной верой в революцию потеряна моя энергия, и вот я символически плачу над пространствами мира.
Безграничен мир и его пространства; оттого, что они так безграничны, я отчаиваюсь, тоскую и страдаю, ибо теряю веру в возможность поставить форму этого мира. Мир в решете, вода в ступе, пространство между пальцами — пустота. Я и есть пустота»[51].
Не отсюда ли у Мандельштама это смиренное «гаси, пожалуй, наши свечи», не потому ли похоронено окончательно солнце, не от этого ли воцаряется пустота? Да, безусловно.
Но исток-то депрессии — НОЧЬ.
Советская, пустая, с растворенными, органично слитыми с ней «черными душами и низменными святошами».
Пустота извне естественно порождает пустоту внутри, опустошает душу.
А что еще может родиться от кромешной безбожной пустоты!
Теперь, когда «ночное солнце» похоронено, стогны городов будет освещать живое светило, а лишь его отблеск — луна.
Опошленная ночь наполнится унынием.
Сможет ли городская луна уподобиться солнцу? Что можно разглядеть в ее свете в «дремучем городе»? Ведь никуда не ушли детские ассоциации, вызываемые словом «дремучий». Они лишь нарастают, захлестывая печалью и предчувствием беды:
Когда городская выходит на стогны луна,
И медленно ей озаряется город дремучий,
И ночь нарастает, унынья и меди полна,
И грубому времени воск уступает певучий,
И плачет кукушка на каменной башне своей,
И бледная жница, сходящая в мир бездыханный,
Тихонько шевелит огромные спицы теней
И желтой соломой бросает на пол деревянный…
(«Когда городская выходит на стогны луна…», 1920)
Вполне конкретная, зримая картина, нарисованная в первой строфе, рождает образ унылой ночи, почти бесконечной: город озаряется луной медленно, ночь нарастает, певучий воск (а у Мандельштама он символизирует прекрасные мгновения жизни, которые растягиваются в сознании) уступает грубому времени (здесь слиты два значения полисемантичного слова «время» — продолжительность, длительность чего-либо, измеряемая секундами, минутами, часами + период, эпоха), грубому времени, способному лишь давить, уничтожать духовную жизнь.
Вторая строфа делает образ ночи эпически безысходным, поскольку в четырех ее строчках содержатся колоссальные пласты подтекста: «И плачет кукушка на каменной башне своей…»
Слово «кукушка» ассоциативно прочно связано в нашем сознании со временем.
Часы с кукушкой.
Скупо отмерянное деревенской игрушкой, дешевыми ходиками, время.
Или вопрос звукам летнего леса: «Кукушка-кукушка, сколько лет мне жить осталось?»
И тут «плач кукушки» тесно связывается с предшествующим «грубым временем», скупо отмеряющим дни и месяцы оставшейся жизни.
Однако есть и еще одна параллель, дошедшая из глубин русской истории. Это издалека доносится предутренний плач Ярославны:
На Дунае Ярославнин голос слышится, кукушкою
безвестною рано кукует:
«Полечу, — говорит, — кукушкою по Дунаю,
омочу бобровый рукав в Каяле-реке,
утру князю кровавые его раны
на могучем его теле».
Ярославна рано плачет
в Путивле на забрале, приговаривая…
Кто эта «бледная жница, сходящая в мир бездыханный», образ которой завершает стихотворение?
Ознакомительная версия.