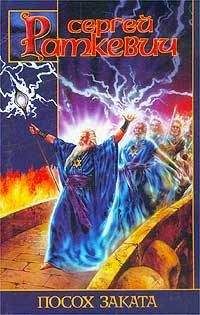«Горящая судьба»
Нет дня, чтобы я не вспоминала В. Т., не размышляла о его судьбе. В судьбе В. Т. есть какая-то предопределенность. Вспомнишь известное: «Посеешь характер — пожнешь судьбу». В его судьбе противостояли два начала — его характер, убеждения и давление времени, государства, стремившегося уничтожить этого человека. Его талант, его страстная жажда справедливости, бесстрашие, готовность делом доказать слово… Все это было не только не востребовано временем, но и опасно ему.
В. Т. ясно чувствовал этот ветер времени, всегда дувший ему навстречу. Но порой порыв слабел, словно забывая его, и В. Т. не упускал возможности что-то сделать для своего спасения, для своей работы.
Был он суеверен, как, наверное, все люди, живущие опасной жизнью — моряки, летчики… Он говорил: «Когда попадаешь в полосу неудач, сиди и не предпринимай ничего, когда же подует попутный ветер — действуй, соглашайся на все предложения». Это — не новое наблюдение. Вспомним Шекспира: «В делах людей приливы и отливы. С приливом достигаем мы успеха…»
Даже дизентерия может быть удачей — шанс попасть в больницу, спастись на месяц — два от золотого забоя, от пятидесятиградусного мороза и побоев блатных.
Вот-вот, кажется, злая судьба настигнет его — 22 июня 1943 г. его судят на Колыме. Показания свидетелей страшны — он, якобы, осмеливался осуждать Верховного главнокомандующего (даже свидетели не решаются назвать его по имени — Сталин), восхвалял Троцкого и т. п. Верный расстрел. Но ему дают статью 58. 10 (антисоветская агитация). Эта статья заслоняет страшный литер КРТД предыдущего срока, и Андрей Пантюхов, врач, заключенный, с которым он подружился, направляет его в 1946 г. на курсы фельдшеров, что и спасает его жизнь на Колыме.
А после Колымы? Болезнь Меньера, глухота, — кажется, жить бы тихо на пенсии, как и настаивала семья. Но он пишет «Колымские рассказы», «Четвертую Вологду», «Вишеру», стихи. «Стихи — это боль и защита от боли…». Стихи — преодоление немоты, исцеляющая душу, сердце и тело сила.
Если сил не растрачу,
Если что-нибудь значу,
Это сила и воля — твоя.
(«Поэзии»)
Писатель, которого не печатают, который пишет в стол кровоточащую новую прозу, понимает силу и новизну своего таланта — и лишен читателя. Помогают жить две силы — стихи (все-таки иногда проникающие в печать), и не то что равнодушие, а просто знание истинной цены мнению людей; конечно, поддержка и понимание немногих, которых он уважает или любит, тех, которые верят в него.
Я — верила.
Он умер, глухой, слепой, одинокий в доме инвалидов и престарелых. Кажется, судьба погубила его, наконец, с помощью ПЧ («прогрессивного человечества»). «Затолкали в яму», как он говорил.
Но начинается жизнь после смерти. Через пять лет после его смерти, в 1987 году, начинается его воскрешение — журналы наперебой печатают прозу, с 1989 года выходят книги. Посмертное «соперничество» с Солженицыным — кто, в конце концов, «главнее». Поверхностные суждения критиков, на двух-трех цитатах строящих свои концепции. Для начала — это естественно. Проза его непривычна. Но появляются исследователи. Книга Е. В. Волковой «Трагический парадокс Варлама Шаламова» (1998), Ф. Апанови-ча «Новая проза» (Польша, 1997), глубокие, яркие статьи Е. Михайлик (Австралия) и др. Как ни странно, на Западе он находит больше понимания и признания. Недавно один исследователь и переводчик из Франции убеждал меня по телефону, что В. Т. писатель («Он именно писатель, художник!»). Я говорю — да я это знаю давно. Но он продолжал твердить, что в отличие от мемуаристов и публицистов, он именно писатель.
Слава его не была громкой, обвальной, но в какой-то степени элитарной. Многие воспринимали КР как мемуары.
Не всем внятный глубокий подтекст, метафоричность, символы — ненавязчивые, кажется, незаметные. Вот и В. Войнович и Л. Чуковская называют его прозу просто очерками. Конечно, в этой мозаике есть и очерки — «для вящей славы документа». Но, думаю, эти уважаемые люди не прочли целиком «Колымских рассказов». Это — труд, душевный труд для читателя. Не просто прочесть, но пережить, перечувствовать! Не глазами, а сердцем. И тогда поднимется перед тобой великая фигура Автора. Бескомпромиссная, правдивая фигура Поэта, которому внятен голос души человеческой, голос камня, ветра и воды, дерева и братьев наших меньших…
Впрочем, он сам говорил, что пока он не чувствует, что его пером водит природа, нечто высшее и непознанное, он не берет пера в руки. Это, кстати, — не об «очерках», это об окнах (или провалах) в запредельный мир, который на наших глазах становится явью. Мир, не чтящий заповедей Христа.
В жизни у него не было удач — чьей-то поддержки властной, совпадения случайностей. Все ему далось неистовым трудом, все оплачено кусками крови, нервов, легких.
Но дал Бог талант, силу и высоту духа, твердость нравственную — много, зато в помощь земной жизни — ничего. Кажется мне, что столько дается святым. Переживают они страдания тела и поругания, истово веря в Царство Божие.
Варлам не имел этого утешения, не верил в Царство Божие на грешной Земле, не верил в трусливых, подлых людей, — светлых и крепких духом на земле — единицы.
Но все-таки писал, ибо не писать не мог. Многие, выжившие в колымском аду, ради жизни и покоя стараются забыть, смягчить жестокую правду о людях, о непрочности материала, из которого они сделаны. При помощи палки и даже без палки из 99 % людей делают трусов, доносчиков, подлецов. Солженицын — Ветров, бригадир — все, чтобы выжить.
Я знаю сам, что это не игра,
Что это смерть, но я и жизни ради,
Как Архимед, не выроню пера,
Не скомкаю развернутой тетради.
Нет, бригадиром я не стану, «лучше, думаю, умру». (В. Т.)
Из Варлама — не сделали ни бригадира, ни доносчика. Он презирал компромиссы и помощь «прогрессивного человечества» в России и на Западе, ибо ведь и за такую помощь надо платить — облегчить жестокую лагерную правду, не говорить правду вообще о людской природе, а только ту ее частицу, что пригодна для политических манипуляций, а ведь Хиросима, Освенцим, Колыма — явления одного порядка.
Все такие попытки он называл «спекуляцией на чужой крови» и считал подлостью использовать чужую кровь в личных целях, политических целях. Конечно, этот глубокий пессимизм неудобен был ни либералам, ни коммунистам: все они оказывались в одной куче нечистых, все ловчили на чужих судьбах, жизнях, на чужой крови.