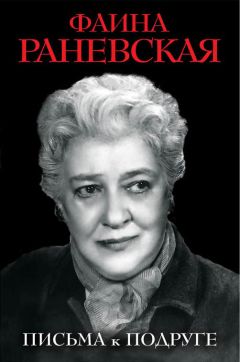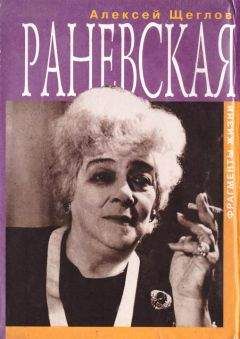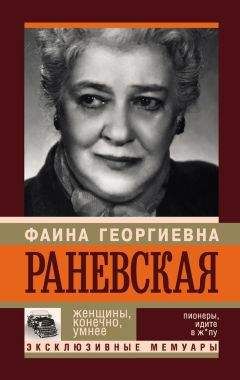Спустя много лет мы встретились с Раневской в Театре Моссовета,[2] куда меня приняли в качестве актрисы по просьбе отца. Несмотря на прошедшие годы, Раневская очень ревностно ко мне относилась, будучи близкой подругой Юнгер. Мы часто встречались за кулисами театра. И каждый раз она мне говорила одну и ту же фразу:
– Фу, как ты похожа на своего отца!
Мой отец умер 6 сентября 1968 года в гостинице «Пекин» в Москве, во время гастролей Театра комедии. Его последний звонок был мне. Он сказал: «Прости меня, дорогая» − и умер, не успев положить трубку.
Панихида состоялась несколько дней спустя в Театре сатиры. Собралось очень много народу, была и Фаина Георгиевна, которая по этому поводу написала письмо своей подруге Надежде Кошеверовой:
«Милая Надюша, знаю, как вам сейчас тяжело, я была на гражданской панихиде. Все это “мероприятие”, не нужное ушедшему, было очень торжественно и пристойно. Москва вела себя достойно. Было много людей, искренне горюющих. Было много венков, цветов, речей, но в этой официальщине даже у чиновников от искусства появилось человечное. Леночка убивалась у меня на плече. Мне ее бесконечно жаль, потому что сейчас ее будет мучить дикая жалость к Николаю Павловичу (совесть), и сейчас она узнает чувство одиночества. Все это я знаю по себе. Бедная Леночка, ей предстоит на днях играть. Все мы очень горюем.
Обнимаю,
ваша Фаина».
Ольга Аросева
Ордер на галоши
Лена: Сталин с нами все время шутил. Нас еще не называют на «вы», особенно Олю, потому что она совсем маленькая. А Сталин называл. Он всегда так говорил вежливо, как будто мы взрослые: «Как ваше мнение», «позвольте», «будьте здоровы».
Оля: Сталин вдруг наклоняется ко мне и говорит: «Разрешите мне, Оля, закурить?» Я смутилась и молчу, ничего не сказала, а все вокруг смеются. Он улыбается и дальше говорит: «У меня тоже есть девочка, Светлана, ей столько лет, сколько вам. Она мне всегда разрешает курить, когда я у нее спрашиваю». Я покраснела вся, а потом сказала: «Можно». И Сталин закурил.
Рассказ Лены и Оли Аросевых. Комсомольская правда, 14 июля 1935 года
Фаину Георгиевну Раневскую, величайшую актрису нашего времени, я имела счастье знать с самых юных лет. Дело в том, что она была хорошо знакома с моей мамой − они довольно часто общались, мама помогала ей с пропиской в Москве. И Фаине Георгиевне, конечно, было известно, что у моей мамы есть две дочери, я и моя старшая сестра Елена, которые учатся и хотят быть актрисами. Фаина Георгиевна принимала живейшее участие в этом. Сначала отговаривала нас учиться, потом все-таки смилостивилась, приняла наше желание и давала нам всяческие советы. Она даже была на выпускном экзамене у моей сестры в Московском городском театральном училище на сказке Гоцци «Король-олень». Фаина Георгиевна просидела и просмотрела весь этот выпускной спектакль.
Вскоре я поступила в Театр комедии в Ленинграде (ныне Петербурге), уехала и уже близко с ней познакомилась, когда она снималась в картине «Золушка» на «Ленфильме». Я работала в Театре комедии, и она меня очень часто навещала, мы много общались. Был 46-й или 47-й год, когда открылись коммерческие магазины. А мой театр находился как раз на втором этаже, над Елисеевским магазином. И она всегда приходила в Елисеевский магазин, брала там какие-то пирожки, бутербродики, относила пакетик в администраторскую, которая располагалась тут же, под лестницей, рядом со входом, и просила передать мне, подкармливала меня. Очевидно, моя мама просила ее за мной следить.
Когда Раневская приезжала сниматься в картине «Золушка», то жила всегда в «Астории», и я ее часто навещала, приходила к ней в гости. Однажды она увидела мои рваные ботинки, страшно разгневалась. А время-то было послевоенное, и, конечно, ботинки были без каблуков и не самого лучшего вида. Трудно было купить что-то приличное. Я получала 200 рублей – это ставка актрисы из вспомогательного состава, а буханка хлеба могла стоить 600 рублей.[3]
Раневская позвонила Николаю Павловичу Акимову, главному режиссеру Театра комедии, куда я только что поступила и стала выговаривать:
– Николай Павлович, тут Лелечка Аросева пришла, ну это же ужасно − у нее рваные ботинки, на дворе мокрый снег, дайте ей ордер на галоши!
Я замотала головой, замахала руками, кулаками. Она говорит:
− Подождите минутку, она чем-то недовольна. Что ты хочешь?
Я ей:
– Фаина Георгиевна, не надо мне ордер на галоши, как вам даже не стыдно такое просить! Пусть он лучше даст главную роль.
Она:
– Николай Павлович, она не хочет ордер на галоши, она хочет главную роль.
Ольга Аросева
Корочки от бутербродов
Послевоенный кризис советской экономики, связанный с конверсией и началом холодной войны, привел к снижению и без того невысокого уровня жизни людей. Начался голод. При средней зарплате молодого рабочего 200 рублей в месяц питание в заводской столовой обходилось в 8–9 рублей в день. От голода спасал картофель и воровство хлеба. В ответ был издан указ от 4 июня 1947, ужесточивший до 10 лет наказание за кражу «государственной собственности» – прежде всего хлеба. «Червонец» стали давать за кражу буханки…
Несмотря на своеобразную суровость, несмотря на острый, очень острый язык, она была добрейшим человеком, нежнейшей души. И был у нее, очевидно, прощальный вечер с группой (съемочной группой «Золушки»), она организовывала банкет и просила меня помочь ей. Купили мы в коммерческом магазине[4] колбасу, сыр, ветчину, семгу (тогда это было вообще диво!). И она мне сказала:
– Мы пойдем на спектакль, а ты сделай, пожалуйста, такие бутербродики без корок − корочки срежешь, а сверху сыр, колбасу, ветчину, рыбку положишь, и разложи на блюдо, корочки отдай дежурной.
Когда на следующий день я к ней пришла, она говорит:
− Ты все сделала хорошо, спасибо. Ты сама поела?
– Да, конечно, я съела два бутерброда.
Она говорит:
– Ты корочки отдала дежурной?
Я, покраснев, сказала:
– Нет. Я унесла их с собой, а сегодня утром их съела.
И она заплакала.
– Я, старая дура, как я могла тебя просить, чтобы ты отдала эти корочки. Ты зачем корочки, ты бутерброды бы взяла с собой.
И она плакала. Она умела сострадать. Любила людей. Переживала за них очень. Однажды при мне к ней пришла женщина примерно ее возраста и сказала:
− Фаечка, мы учились в гимназии в Таганроге вместе, вот фотография.
Был ноябрь месяц, на улице холод, она пришла без пальто, в какой-то кофте. Женщина показала эту фотографию. Фаина Георгиевна посмотрела – ее, правда, можно было узнать – и спросила:
− Почему ты без пальто?
Та ответила:
− А у меня его нет.
Фаина Георгиевна взяла с вешалки свое и отдала ей. Эта женщина ушла. Я удивилась:
− Фаина Георгиевна, вы с ума сошли, на дворе ноябрь месяц, снег идет, куда вы без пальто? Как вы поедете?
− У меня очень теплый халат.
Я говорю:
− А откуда вы знаете, что это ваша соученица?
− Леленька, но она же показала фотографию.
− Там вы видны, а ее я что-то не увидела, − возмутилась я.
Она замолчала, а потом так очень грустно сказала:
− Ну так нельзя, надо верить людям.
Она действительно была очень доверчивым человеком…
Наталья Трауберг
«Самоубийцы» на коммунальной кухне
Александр Петрович: Умереть он не умер, Мария Лукьяновна, но я должен вам честно сказать − собирается.
Николай Эрдман, «Самоубийца»
Я знала Раневскую еще по Ленинграду, где мы жили на Малой Посадской улице – это прямо напротив «Ленфильма». Она очень часто приходила к нам, когда снимали «Золушку». Мы дружили, я смотрела много ее спектаклей. С ней было очень интересно, она была хулиганистой такой, очень свободная, очень злоязычная, добрая, но сердитая, говорила свободно и бог знает что.
Почему-то никто не знает о том, что Фаина Георгиевна сперва жила не там, где «Иллюзион», а в Воротниковском переулке, в коммунальной квартире. Такой серый большой дом. И к ней ходили в этот дом в гости, и я в том числе, потому что в 45-м, 48-м и 49-м была летом в Москве. Я училась в Ленинграде, в университете, но приезжала на лето к Гариным. Они были у меня вроде тети и дяди таких – Хеся Александровна и Эраст Павлович. Фаина Георгиевна часто приходила к Гариным или они к ней шли в гости. В 49-м было очень тяжелое ощущение. Были космополиты, уже убили Михоэлса. И Таирова давно закрыли. Всё закрыли. И уже совсем не до развлечений было. Я ничего в 49-м такого «поэтического» не помню. А в 45-м и 48-м помню. Даже в 48-м они еще трепались – Консовский, Гарин и Раневская.
Что они делали? Собирались и читали «Самоубийцу» Эрдмана, за что в то время можно было уже сразу получить что-нибудь «хорошее». И хохотали, просто умирали. Причем они его часто читали по ролям – несколько раз я слушала: Гарин – самоубийцу, она – женщин всяких, Консовский – еще каких-то людей. Замечательно. Если бы это было записано – это нечто!