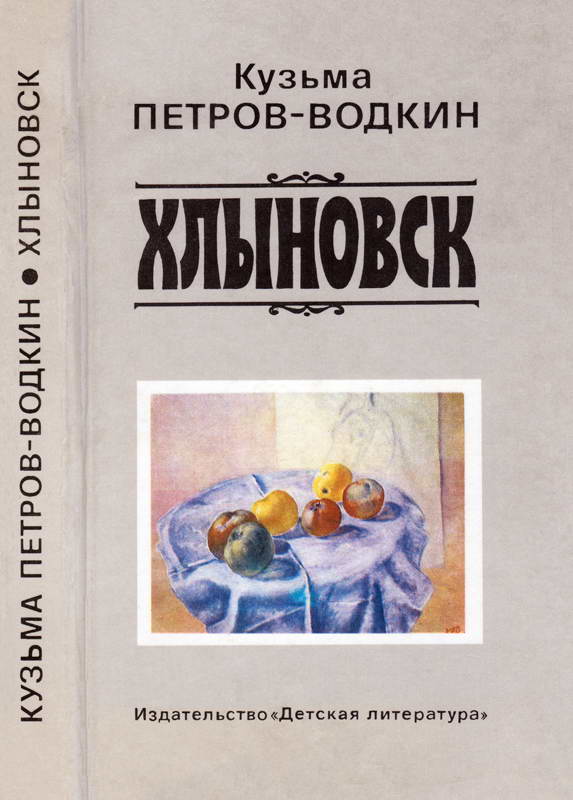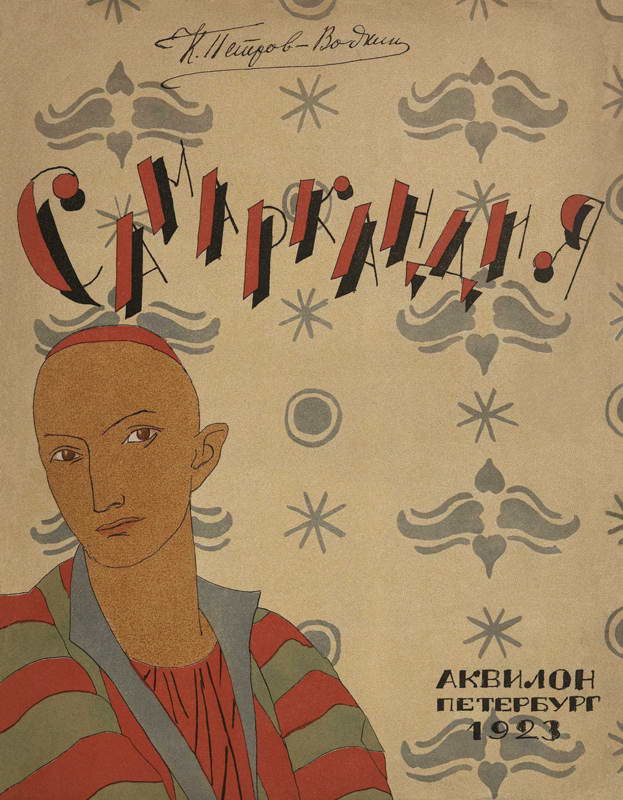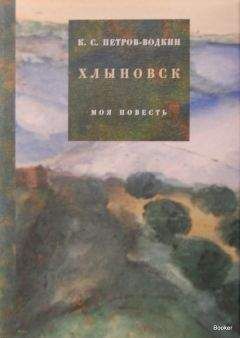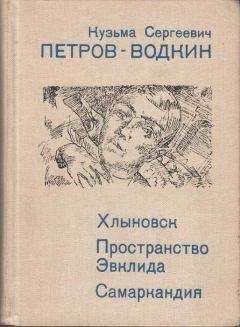Когда вышла воля и крестьяне завозились, — дед мой Пантелей Трофимыч, занимавшийся еще с мальчишества по плотничьему делу, перебрался с бабушкой в городок. Сколотил он своими руками домишко над берегом Волги, к нему пристроил келейку, соединявшуюся крышей с передней избой.
В этой келейке и рожусь я в свое время. Келейка, собственно говоря, предназначалась для Февронии Трофимовны, сестры деда, овдовевшей в это время, но после смерти Пантелея Трофимыча бабушка Феврония перешла жить к золовке в переднюю избу.
Дед мой умер, когда матери было семь лет. Она о нем запомнила только по гостинцам и ласкам. Другие сообщали мне о деде, что тот был маленького роста, лысоватый, молчаливый, застенчивый, но очень спорый на работу мужик, добрый и всем доверявший. Весенней порой, когда свертывает и перекашивает на Волге наезженные дороги, от берегов и посредине чернеют промоины-полыньи, возвращался дед из заволжских деревень с ободьями колес, втулками и мелким щепьем. Один наедине, попутчиков для переправы в такое время не много найдется. Дома семья, может, нехватка в чем, на дворе светлый праздник: ехать надо было.
Спасая лошадь, намерз и вымок дедушка, но все равно домой пришел ночью, трясясь от озноба, — без воза и лошади: воз легкостью товара спас хозяина, но потопил лошадь, скрывшуюся с головой в промоине. Дед бросился спасать за дугу коня и провалился сам. Лед на Волге трещал, ухал; надо было бросить все.
Когда Пантелей Трофимыч добрался, через льдину на льдину, до берега и оглянулся назад, — воз уже крутило и уносило движением тронувшегося льда. В эту ночь Волга пошла, и в эту же ночь слег дедушка и больше не встал. В воскресенье на Фоминой он умер.
Придавила эта смерть Федосью Антоньевну с малышами на руках, но вначале помогло вот что (что характеризует для нас и покойного деда). Как только установились дороги весенние, закончился посев, стали наведывать сирот Пантелеевых мужики, то заволжские, то из уезда. Придет такой, пособолезнует вдове, ребятишкам сунет по баранке, а потом полезет за пазуху и вынет из кисета, какую ему полагается, сумму ассигнаций и скажет:
— Вот, вдовушка, тут должок мой покойному. Царство ему небесное: больно вовремя помог он мне колосьями да станом…
И Февронья Трофимовна помогала дому рукодельями и своими практическими советами ко всем случаям жизни.
О бабушке Февронии необходимо рассказать то, что я запомнил о ней и что слышал от других.
По внешности она была совершенно отлична от брата: высокая, никогда не сутулившаяся, с прядями, змеями серебряных волос, с острым, пронизывающим взглядом темных глаз. Покойный муж ее был крепостной механик по водяным мельницам.
Моя мать, боявшаяся тетки, уважавшая ее и имевшая в ней единственный источник знаний, рассказывала:
— Заболели у соседей скарлатиной. Я сбегала вечерком навестить больную и вернулась. Стучу из сеней. Тетя спрашивает: — Где была? Чем больна? — Как узнала о скарлатине — хлопнула крючком и не впустила: — В сенях переночуешь, — говорит. Утром, чуть свет, подала мне в окно мыло и полотенце: — Беги на Волгу и вымойся сверху донизу. — И, когда я вернулась, тщательно вымывшись от ногтей ног до волос, тетя впустила и разъяснила смысл заразных болезней…
Февронья Трофимовна объясняла будущий конец земли обезводиванием. Знала расчет пасхальных седьмиц. Знала месячные восходы и заходы. Когда что сажать и сеять…
Какую надо было иметь память, будучи безграмотной, чтоб уложить в себя в должном порядке такое разнообразие сведений. Ко всему этому она была рукодельница по кружевам и вышивкам.
Дикими казались среди окружающей среды эти знания и лаконический, четкий говор у простой женщины.
— Не иначе, как ведунья, — чем же ей и быть? — шептали соседи.
Но, что бы ни случилось, — бежали к ней. Февронья Трофимовна давала первую помощь больным, спасала трудно рожающих. Не позволила схоронить одну девушку, в действительности оказавшуюся в летаргии. Но не из любви к людям, казалось, она это делает. «Люди хуже волков, — говорила старуха, — весь Страшный суд для того и выдуман, чтоб усмирить их. Ведь кому и какой интерес на том свете с грешной дрянью возиться?!»
Одинокая, замкнутая бабушка Февронья не спеша, размеренно, доживала свои дни, к жизни и к смерти казавшаяся равнодушной. Она очень редко и мало говорила о своей прошлой жизни, но и в этом малом проскальзывало, сколь хорошо и близко она знала быт и привычки помещиков, вот отсюда, очевидно, и возникла у соседей догадка о ее прежней жизни.
— С барином она жила, да… Муж для видимости одной был, — говорили около. — Откуда же у нее деньги — ну-ка?
— Озолотил барин, да и со двора долой! — говорили другие.
Если в этом была хоть доля правды — представляю я себе обиду вечную к такому любовнику в сердце Февронии Трофимовны.
Золото, о котором шептались в околотке, заключалось в восьмистах рублях, хранившихся у нее на дне кованого сундука.
Может быть, для окончательного доказательства человеческой дрянности и хранила старуха это проклятое золото, — немало через него нехорошего увидел я потом в моих близких так и не дощупавшихся до золота, провалившегося неизвестно куда.
Из девяти детей дедушки Пантелея и бабушки Федосьи до меня дожили двое — моя мать и брат ее дядя Ваня, старше ее на несколько лет.
Захватив отца в учебном возрасте, дядя Ваня был «наставлен грамоте».
— Он ведь учен да учен, — при тятеньке дело было, а я самоучкой кое-как наскребла, — говорила моя мать на мои шутки о невероятном количестве «ятей», которые она употребляла не в тех словах, где требовалось, — и я шутя же указывал на упрощенный подход к этому вопросу у дяди. «Ученый» дядя Ваня принял «яти» как неизбежное во всех словах на «е», и они у него, с навесами, как могильные кресты, создавали новую, совершенно фантастическую и неузнаваемую письменность. Дядя, говоривший мало, писал длинно и витиевато: в каждом слове и букве он старался «изобразить» значение их, их магию, заложенную не в смысле, а в самом чертеже слов и букв. Из рода в род безграмотные — и вот ему первому открывается фокус записи, навсегда фиксирующей вовне имя предмета.
Уже далеко позже, перед смертью незадолго, больной,