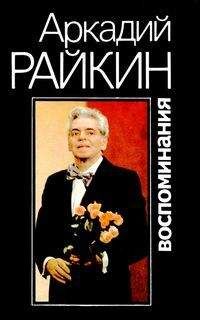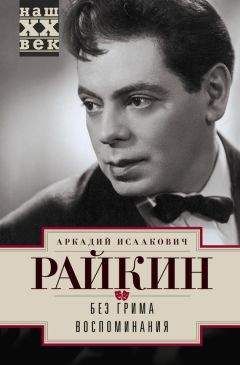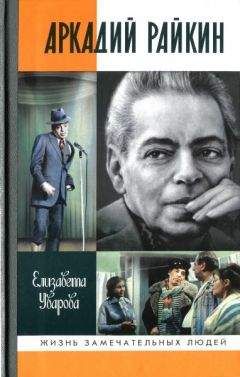Сегодня, когда наше общество сделало гигантский скачок на пути к свободному, непредвзятому осмыслению действительности, его критика, носившая преимущественно социальный характер, может показаться несколько утилитарной, сосредоточенной на «отдельных» недостатках, не вскрывающей порочность самой системы. Но он, как никто, умел придать этим недостаткам столь обобщающий характер, что за ними вставала система. Нередко приходилось пользоваться эзоповым языком, освоенным им в совершенстве. По словам Жванецкого, «юмор становился все более непереводимым».
Конечно, Райкин не мог себе позволить перейти определенную черту — у него всегда был свой внутренний цензор. Но и это не спасало от неприятностей. Особенно трудно приходилось на рубеже сороковых — пятидесятых годов и в начале семидесятых. Возможно, Аркадий Исаакович меня бы здесь поправил, сказав, что трудно было всегда. Да, к грубым окрикам, предвзятым оценкам рецензентов, а то и просто замалчиванию прессы, ему было не привыкать. Но в иные, особенно памятные времена вопрос стоял — как выжить?
Как-то в разговоре с Райкиным речь зашла о духовности, Библии, о христианских заповедях, об отношении к врагам. «Христианская религия учит — если тебя ударили по левой щеке, подставь правую,— сказал Райкин.— Что ж, может быть, есть такие любители. Но я не видел человека, который жил бы по этому завету. Меня же, независимо от того, прав я был или виноват, били и по правой и по левой щеке, а за неимением третьей — все повторялось снова. Мне кажется, дело в том, что надо искать справедливость, бороться за нее». И он боролся.
Как и у Владимира Высоцкого, артиста другого поколения и иной судьбы, у него был свой «черный человек в костюме сером», неотступно его преследовавший. «Сочиняем ли мы очередную миниатюру, репетируем ли песенку, выступаем ли на сцене — перед нами маячит его зловещая тень»,— говорил Райкин в одном из интервью. Зловещая тень — не какой-то один конкретный человек, а собирательный образ всех охранителей существующего порядка, сторонников режима, подрыв которого грозил их собственному благополучию: «Он был министром, домуправом, офицером...»
Райкин, слава Богу, выдержал, выжил. Ничем себя не скомпрометировал. Но силы оказались заметно подорванными. Достаточно сказать, что если за предшествующие тридцать лет создано более двадцати спектаклей, то за последние шестнадцать лет всего три, если не считать составленных в основном из прежних номеров программ «Избранное».
Он долго болел. После перерыва в конце 1972 года начал играть одну-две миниатюры в «Избранном», постепенно увеличивая нагрузки. Одним из характернейших примеров райкинского творчества этого периода может служить миниатюра «Единое мнение». В этой миниатюре (авторы В. Синакевич и В. Сквирский) он представал в облике респектабельного, элегантного, вполне современного руководителя, объясняющего подчиненному, что желтый цвет — это вовсе не желтый, а темно-зеленый. Он немногословен, невозмутимо спокоен: «Если вы хотите, чтобы мы и дальше... (пауза) красили вместе, то должны видеть вещи в едином цвете».
Люди близкие, и даже не очень близкие, но знакомые с перипетиями предшествующих конфликтов, узнавали в райкинском персонаже заведующего отделом культуры ЦК КПСС В. Ф. Шауру (на страницах этой книги Райкин рассказывает, как из кабинета Шауры его увезли с инфарктом в больницу). И вот на одном из спектаклей, в помещении Московского театра эстрады, присутствует не то он сам, не то кто-то из его ближайших помощников. Друзья Райкина советуют, просят не показывать эту миниатюру — она короткая, ее отсутствие не отразится на спектакле в целом. Но он не может отказаться от поединка: «Если не я, то кто?» Легко представить, что аналогичные ситуации случались не однажды. Зрителей, не подозревавших о драматизме подобных поединков, захватывал особый наэлектризованный воздух спектакля, сдержанность и одновременно отчаянность, с которой он игрался.
Взаимоотношения с публикой — отдельная тема. Сменялись поколения, приходили и уходили кумиры, а авторитет Райкина, его особое место в искусстве эстрады оставались незыблемыми. Годы брали свое, сдавала память, утрачивалась легкость движений, но сохранялась атмосфера единения с залом, на протяжении полувека сопутствовавшая каждому его выходу на сцену. И самый рядовой, непремьерный спектакль превращался в единственный в своем роде праздник. Нередко случалось, что зрители поднимались с мест, стоя приветствовали любимого артиста. Мне довелось это наблюдать и в Москве, и в Ленинграде, где театр работал несколько месяцев в течение последнего в жизни Райкина 1987 года.
Что это? Имидж, как принято говорить нынче? Магия таланта? Аура, окружающая его личность? Не знаю, но у него, по-видимому, имелся некий код, с помощью которого происходило общение со зрителями. Не случайно, мне не раз приходилось слышать, что его не волнует, когда редакторская рука выбрасывает из монолога какую-то острую фразу. «Я сделаю паузу, промолчу,— говорил он,— и будет ясно без слов. Даже еще острее. Публика все поймет». И она действительно понимала.
Райкин не был ни теоретиком, ни философом. Он воспринимал окружающий мир чисто эмоционально, но, быть может, именно поэтому его миниатюры, а он всегда в той или иной мере был их соавтором, попадали в самые болевые точки нашей действительности.
Искусство Райкина всегда было очень серьезно и прежде всего по отношению к нему самого художника. Но молодого Райкина горячо полюбили за великолепную «несерьезность», искрометную комедийность его серьезного искусства. Попасть на спектакль Ленинградского театра миниатюр, где бы он ни работал, было всегда непросто. Счастливчикам артист дарил три часа очищающего душу смеха. А те, кому не удавалось побывать на спектаклях, приникали к приемникам, чуть заслышав знакомый глуховатый голос.
Артистом было создано целое направление в нашем искусстве, практически не имеющее аналогов за рубежом. Под непосредственным влиянием Райкина родились театры Геннадия Хазанова, Евгения Петросяна, Романа Карцева и Виктора Ильченко. Благодаря Райкину новыми именами обогатилась и сатирическая литература. Самое крупное из них — Михаил Жванецкий. Пройдя школу Райкина, он нашел свою неповторимую интонацию. Пути разошлись — каждый из них наделен слишком яркой индивидуальностью, сформирован своим временем. Райкину чужды сгущенная парадоксальность, усложненность, свойственные вещам зрелого Жванецкого. На рубеже 70—80-х годов прозрачная ясность, психологизм райкинского «абсурдного» мира обернулись у Жванецкого неким «театром абсурда», не требующим никаких психологических мотивировок. «Как у Жванецкого» — говорят сегодня. «Как у Райкина» — говорили еще вчера. «Закончившие высшую школу А. И. Райкина,— пишет Жванецкий,— привыкают нестись вперед головой. Так и пробиваем лед — кто-то сверху ломом, мы — снизу головой. Привыкаем не бояться написанного самим собой, не дрейфить от своего мужества».