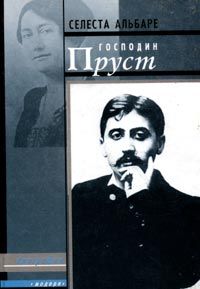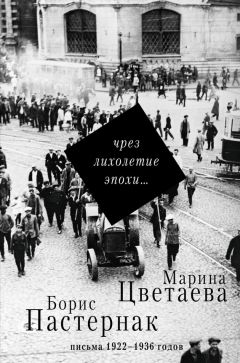Мы поженились 27 марта 1913 года. Но буквально перед тем, как все семейство отправилось в церковь, почтальон неожиданно приносит Одилону телеграмму, и я вижу, как мой муж вдруг разволновался. Я его спрашиваю:
— Что случилось?
— Это один мой парижский клиент поздравляет меня и желает всяческого счастья. Конечно, это совсем необычный клиент, не такой, как все, но никогда бы не подумал, что ему придет в голову послать мне телеграмму.
И больше ничего мне уже не говорил.
Я видела, как он растрогался. Телеграмма, он мне ее показал, и вправду была очень трогательная. Я сохранила ее: «Примите поздравления, не пишу больше из-за гриппа и слабости; от всего сердца желаю счастья вам и всем вашим». И тут же подпись: «Марсель Пруст».
Так я впервые услышала о нем. Никогда, начиная с нашего знакомства и во все время жениховства, Одилон не проронил ни слова про него. Потом, уже днем, он сказал, что это один хороший клиент, которого он предупредил, уезжая из Парижа, что едет жениться и две-три недели не сможет приезжать за ним на такси, как обычно. Г-н Пруст спросил его:
— А куда же вы едете?
— На свою родину.
— И где ваша родина?
Одилон объяснил ему, но г-н Пруст спросил еще: А когда же свадьба?
Потом я узнала, что это его обычная манера выспрашивать, и, конечно, уже в тот момент поздравительная телеграмма была у него в голове.
После свадьбы, которую устроили как раз на Пасху, чтобы собраться всей семьей, мы все отправились в Париж и там вместе уже закончили праздники. Только для нас одних потребовался чуть ли не целый вагон. Я не спала всю ночь и помню, как страшно сердилась на мужа за то, что он, как и все другие, заснул и до меня никому не было никакого дела. А утром, выйдя на Лионском вокзале, среди всего этого дыма и людской толпы, суетящейся в поисках такси, почувствовала себя совсем потерянной. Наконец Одилон нашел машину. Помню, как мы проезжали мимо Французского Театра и муж, указывая пальцем, сказал:
— Смотри, там, внизу, это Опера.
— Я взглянула и, увидев только зеленоватую крышу, удивилась:
— Вот это?
У нас была маленькая квартирка в новом доме на Леваллуа, которую Одилон нашел с трудом. Как он потом объяснил, дело было в том, что ему очень хотелось жить поближе к одному кафе, которое закрывалось совсем поздно ночью из-за того самого человека, «его» г-на Пруста, который иногда звонил ему по телефону или оставлял записку до десяти, одиннадцати часов или даже до полуночи с просьбой заехать за ним. Раньше эти записки получала сестра Одилона Адель, г-жа Ларивьер, в своем заведении на улице Монмартр; но мужу больше подходила Леваллуа, там было удобнее ставить его такси; к тому же совсем рядом располагалось кафе-табак с телефоном, открытое до поздней ночи.
Наша квартирка была совсем новой, безупречно чистой и великолепно устроенной; не знаю уж почему — наверно, усталость, волнения и все вокруг меня совершенно незнакомое — но, едва войдя, я расплакалась. А потом заснула, как тюк.
Так у нас прошло недели две. Мне плохо спалось, и я с трудом привыкала к новой жизни; правда, меня поддержала вторая сестра мужа, Жюли Альбаре, по-матерински отнесшаяся ко мне. Я ничего не умела, дома нас с сестрой баловали, я не могла даже разжечь огонь, все делала наша матушка. Золовка давала мне советы и кое-чему учила — например, ходить за покупками, это очень важно, она брала меня с собой в магазины. Но, самое главное, мой муж был во всем очень деликатен, ему хватало на все и мягкости и терпения... В деревне я привыкла к тому, что двери никогда не запираются, и однажды захлопнула дверь, а ключ остался внутри. Пришлось идти к консьержке, и мы отправились с ней посмотреть, нельзя ли пробраться внутрь через окно кухни. Но тут пришел муж со своим ключом. Да вот беда — мой-то оставался изнутри в замке, и лезть в окно пришлось ему. Потом он только и сказал мне нежным голосом:
— Здесь, маленькая, все-таки не деревня. Постарайся не забывать про ключ.
Его слова показались мне упреком, и я заплакала.
Для меня все было плохо, хотя муж старался, как мог, угождать мне. Он постоянно приносил цветы, а однажды, благодаря его сестре Адели, мы побывали в Комической опере на «Миньоне» — к ней часто в кафе ходили артисты оперетты и приносили билеты. Во время представления муж спросил меня:
— Тебе нравится? Посмотри, как красиво.
Но меня все это пение только утомляло, и я ответила:
— Да скоро ли, наконец, они кончат?
Потом он всю жизнь смеялся над этим случаем.
Я была совсем еще молодая. Но муж никогда и ничем меня не обидел. Он ждал, пока я немного освоюсь, и первые две недели говорил мне:
— Ты понемногу привыкнешь, и тогда я займусь своей работой, но не раньше.
Прошли недели две апреля, и он сказал:
— Если хочешь, пойдем сегодня гулять на бульвар Османн и заглянем к г-ну
Прусту предупредить его, что он опять может вызывать меня; я уже пойду на работу.
Не торопясь, мы отправились пешком на бульвар Османн, 102 — не помню, заметила ли я тогда этот номер. На втором этаже дверь в кухню с черного хода нам открыл Никола Коттен, камердинер. Там же была и его жена Селина, также служившая у г-на Пруста. Оба очень милые, особенно он, и, как мне показалось, они обрадовались моему мужу. Но из-за своей застенчивости я была совсем не в восторге при виде новых лиц и хоть ради мужа изображала всяческие вежливости, но мне хотелось лишь одного — поскорее уйти. Помню, правда, большую плиту, где потрескивал огонь, и то, как вся кухня прямо-таки сверкала чистотой. Муж не хотел беспокоить г-на Пруста, а просил Никола только предупредить его о своем возвращении. Но Никола обязательно хотел сказать, что пришел Одилон.
Г-н Пруст вышел на кухню. Я всегда его таким и вспоминаю — в жилете поверх белой рубашки. Он сразу же поразил меня. Я увидела настоящего аристократа. Он был очень моложавый — тоненький, но совсем не тощий, с очень красивой кожей и ослепительными зубами. И, конечно, эта небольшая прядь, которая всегда спускалась у него на лоб. И удивительная элегантность и сдержанность в движениях, которую я часто замечала потом у астматиков, словно они берегли свои силы и дыхание. Многим он казался маленьким, но на самом деле был не меньше меня, а я совсем не коротышка — почти метр семьдесят два.
Муж поздоровался с ним и, поняв, кто я, он протянул мне руку и сказал:
— Мадам, представляю вам Марселя Пруста в неглиже, непричесанного и без бороды.
Я так засмущалась, что даже не могла взглянуть на него. Он сказал мужу еще несколько фраз, которые я не расслышала, потому что, не переставая говорить, он ходил по кухне, но чувствовала, как он рассматривает меня, однако в то же время ощущала и его деликатность, отчего смущалась еще более. Под конец он сказал: