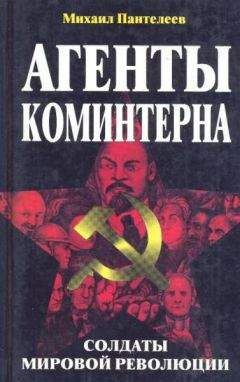Ознакомительная версия.
– Это ты, – сказала я.
– Ваша милость. – Старик удовлетворенно кивнул и галантно поклонился.
Папин жест, папина интонация и папино выражение. Папины горы.
– А вот «моя», – сказал он, медленно протягивая руку.
Две фотографии на паспорт, лицо, повторенное дважды. Горбоносая старуха важно и твердо взглянула на меня.
– Как ее звали? – спросила я, внимательно вглядываясь в лицо.
– Вера.
– Что?! – Я беспомощно оглянулась по сторонам.
– Вера! – вдруг заорал старик. – Вера!
Володя бросил есть и взглянул на меня.
– У меня что – то с нервами плохо, – сказала я, откидываясь на спинку скамейки.
– Да вижу. – Узкие проницательные глаза за стеклами очков. – Вижу. Как только видел, сразу понял. Вчера как посмотрел, как плачешь, разнервничался, спать не мог, – рубит он рукой по воздуху и опускает горько голову, так что видна лысина.
Старик сидит, положив руки на колени, рассеянно смотрит по сторонам, думая о чем-то.
Бабочка вьется надо мной, садится на колени, а вчера, когда складывали поленницу, слетела с дров на мою руку и так сидела, закрывая и открывая крылья.
– Что за звук? – спросил Гешка.
Крылья со старческим вздохом и кряхтеньем открывались и закрывались. Мы стояли и смотрели – сложенные белым парусом крылья и размашистые красно-коричневые открытые ладони.
Во всем этом я хочу видеть присутствие отца. До сорока дней осталось всего два полных дня. Солнце прячется за тучу, и я загадываю: если папа видит, то солнце еще выглянет над землей, прежде чем зайти. И сквозь тучу, сплошь темной полосой накрывшей небо, начинает вываливаться красная капля солнца. Висит посередине тучи кровавая, все возрастающая тяжелеющая капля, замерев красным слезящимся глазом.
– Не страдай, – говорю я. – Не страдай. Не надо так краснеть.
И солнце бледнеет. Постепенно из кроваво-алого, цвета живой крови, превращается в бледновато-серую свернутую тень.
«Непонятно, как он двигался, – сказал врач после вскрытия. – Мышца совсем не снабжалась кровью».
Отца разрезали, исполосовали, растерзали сердце, а я все еще ищу его на Земле.
Я приеду в Софию еще дважды – на похороны брата и на первую годовщину его смерти. Остановлюсь уже не в папиной квартире, порога которой поклянусь не переступать после разговора о наследстве, а у Володиной дочери Ольги. Именно в те дни в Румынии начнутся беспорядки – что-то вроде то ли восстания против Чаушеску, то ли революции, по телевизору будут показывать стрельбу в Бухаресте, убитых, мятущуюся толпу. Я заколеблюсь, буду страшиться – ехать или переждать, съезжу на вокзал, расспрошу русских проводников, только что проехавших Бухарест, и вот ранним утром, все еще колеблясь, за несколько часов до отхода поезда, ехать или нет, мимоходом, перед тем, как зайти в ванную, включу на кухне радио – и услышу голос папы.
Старческий, задыхающийся от усилий передать то, что его волнует, голос. Зажав рот рукой, я опущусь на стул напротив двери в кухню и так замру. Голос то взвивался вверх, задыхаясь, то обрывался хрипом. Папа слал мне привет своим старческим, натужным голосом, стараясь побороть немощь и слабость, отец не умел говорить спокойно и размеренно, он увлекался, горячился, заново переживая все, что воскрешал словами. В декабрьское утро 1989 года я сидела согнувшись на стуле в коридоре, прижав руки ко рту, и слушала голос. Сколько это длилось? Полчаса? Десять минут? Я сорвалась со стула, схватила телефон, стала звонить единственному человеку, которого это могло обрадовать, – Норе. Папа все говорил, я набирала номер, но дозвониться в Варну не смогла. Свидетелей этого чуда не осталось. Вот так: в день отъезда, перепуганная, колеблющаяся, я мимоходом включила до тех пор молчавшее радио, попала именно на ту программу и услышала голос папы. Папа прощался со мной, словно давая знать: «Поезжай, будь спокойна, ничего не случится». И, встав, потрясенная, я поехала на вокзал. Потом кто-то из знакомых, кажется, Валя Терпешев, сын тети Мары, достанет мне эту запись, и она будет лежать в шкафу в Черноголовке. Я буду включать ее и, не выслушав и нескольких слов, – выключать. Он рассказывал об июньском восстании 1923 года…
В Бухаресте проводники подняли ступени, заперли вагон, задраили шторы, потушили свет. Мы простояли несколько часов в центре Бухареста. Доносились откуда-то выстрелы. Я была спокойна, как и утром, сидела, прижавшись спиной к стенке купе, время от времени отодвигала краешек шторы, выглядывала на пустынный перрон. Я думала, что вижу Бухарест в последний раз и в Софию больше не вернусь.
Вместо заключения. Старик
Рассказ
Женщина в черном платье медленно пробиралась сквозь толпу – слепое черное пятно на сетчатке глаза в яркий солнечный день. Платье висело темной тряпкой, ноги от жары вспотели, и ремешки сандалий врезались в красные вспухшие косточки. Вокруг – толпа с покупками, свертками, мороженым. Жарко. Женщина только что покинула дом, где все пространство, вся атмосфера были пропитаны ее отцом. Широко раскрытые глаза, чуть приоткрытый от усилий рот, распростертые руки, придерживающиеся за стены длинного коридора, неуверенные шаги, позвякивание чайника на кухне – отец пил, припав к носику чайника, тихое «ох-ха», зеленый круг лампы на столе, листы бумаги, книги, рукописи… тишина. Глубокое кожаное кресло, беспомощные, немного растерянные глаза из-под тонких кустистых бровей.
Женщина свернула в пустынную улочку, подбираясь к трамвайной остановке. Узкая лестница вела на эстакаду. Бетонная стена отбрасывала тень. Она остановилась у стены с клочьями объявлений, инстинктивно чувствуя себя здесь более уместной. В ярком летнем городе, стоя у облупленной сены, она думала, что земля со смертью отца обвалилась оврагом, открылась зияющая пропасть.
Подошел трамвай, покачиваясь длинным вагоном. Сердце немного отпустило. Проехали качели. Сюда, на площадку, залитую солнцем, она приходила. Здесь бегал ее старший сын, когда трамвай еще здесь не ходил, а был просто лесопарк. Здесь на качелях сына ужалила пчела, он страшно плакал, и она вынула жало. Какое отношение это имело к отцу? Тогда время еще шло медленно. Каждый день был днем размеренного счастья. Отец оставался где-то в стороне со своими делами, думами, претензиями, грубостью, криком и возмущением. И только иногда поражало – откуда отец все про нее знает? В сумочке лежала записная книжка отца, в книжке с оборванной наполовину корочкой, разбухшей от записей, будто дела раздвинули страницы, есть периодически повторяющаяся запись, мелким убористым почерком – ее приезд в гости, ее самой и детей, расходы, покупки, отдых, подарки, все с точностью военного человека, привыкшего к порядку.
Ознакомительная версия.