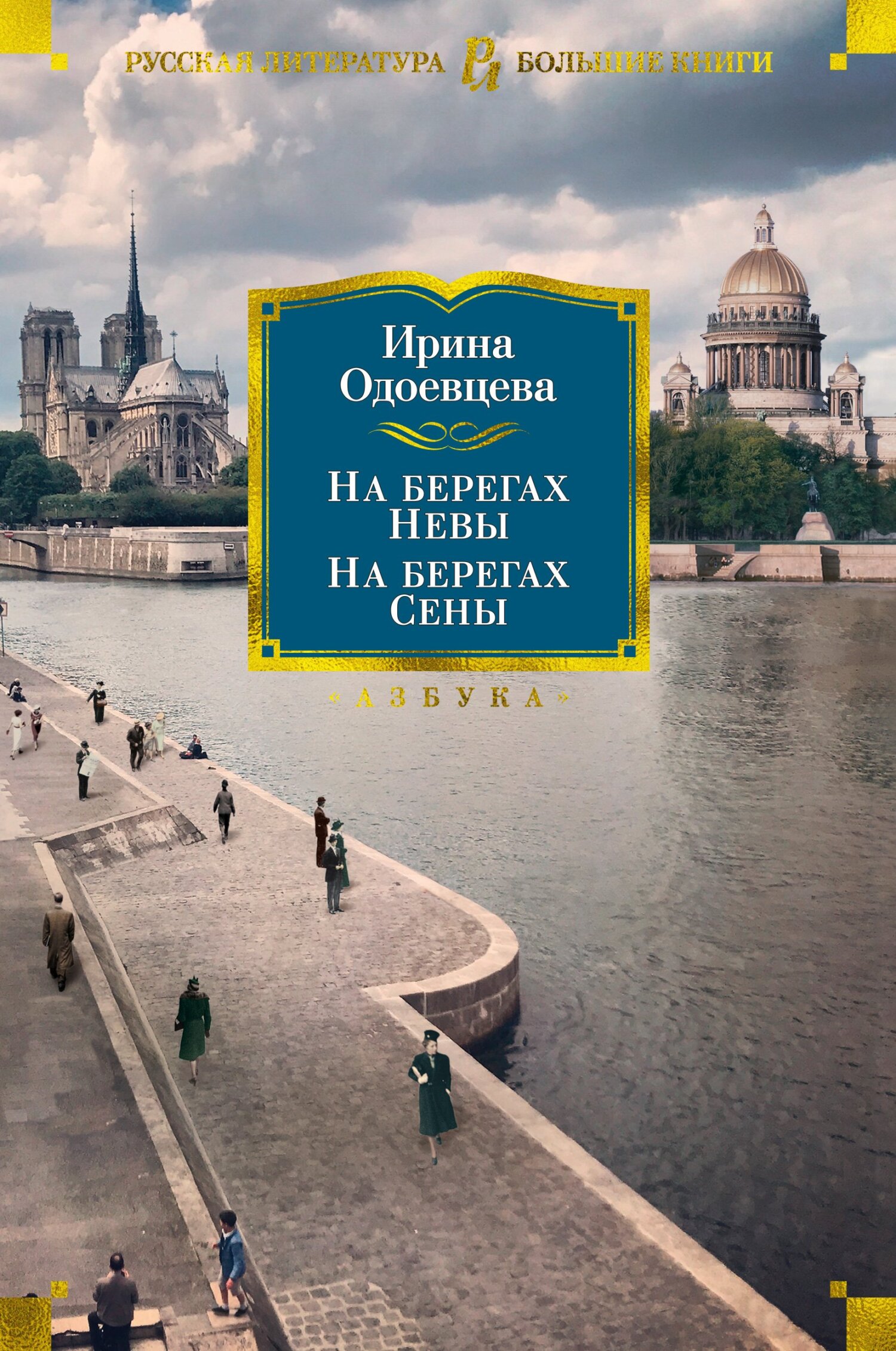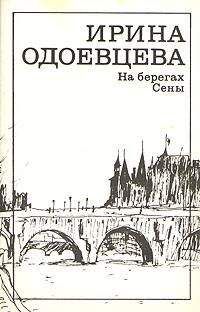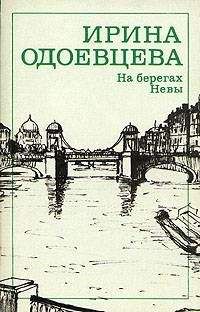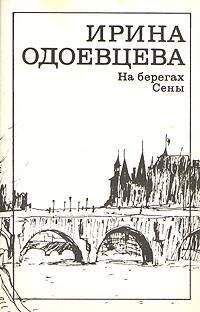«кандидаты» в поэты постоянно осаждали знаменитых поэтов, порядком надоедая им. Но «мистический анархист» Чулков отнесся к Георгию Иванову не только доброжелательно, а просто с энтузиазмом и пришел в восторг от его стихов, находя в них «чисто пушкинскую гармонию и прозрачность».
Эти неумеренные восторги не вскружили ему голову, как и уверения, что он будущий Пушкин, они скорее смешили его. О том, что во Втором Корпусе появился «будущий Пушкин», Чулков в порыве анархо-мистического восторга сообщил и Гумилеву, отнесшемуся к этому сенсационному известию без всякого любопытства.
Георгия Иванова в литературоведческих изданиях принято называть учеником Гумилева. Но на самом деле он им никогда не был, как, впрочем, никогда не был ничьим учеником. В поэзии он был самоучкой. Он вполне самостоятельно изучил ее.
Знакомство его с Гумилевым произошло много позже, когда, уже успев побывать эгофутуристом и выпустить свой первый сборник «Отплытие на остров Цитеру», он без баллотировки был приглашен в Цех поэтов.
Став членом Цеха поэтов, он почувствовал себя не только настоящим поэтом, но и совершенно взрослым, как он утверждал.
Но мне казалось, да и теперь еще кажется, что все же по-настоящему взрослым он так до самой смерти и не стал.
Не помню, кто из французских поэтов задал вопрос: «Peut-on jamais giérir de son enfance?» [102] Конечно, многим это удается: дельцам, политическим деятелям, чиновникам и тому подобным; но поэты, и тем более русские поэты, часто так и не могут выздороветь, освободиться от детства. Не мог освободиться от него и Георгий Иванов.
Я нарочно так подробно остановилась на его детстве. Оно продолжало присутствовать в его взрослой жизни. Им объясняются многие противоречивые черты его характера. Это подспудное присутствие детства помогает, по-моему, хоть отчасти понять всю «непонятность» Георгия Иванова.
О том, чтобы стать членом Цеха поэтов, Георгий Иванов и мечтать не смел. И когда он нежданно-негаданно получил письмо от «самого синдика» Цеха поэтов, извещающее его, что он зачислен в члены без баллотировки, и приглашающее явиться в «Бродячую собаку» для знакомства, он просто ошалел от восторга.
Восторг этот принял гиперболические размеры и выразился в том, что он стал носиться по всей Наташиной квартире, хлопая оглушительно дверями, вскакивая на кресла и перепрыгивая с одного на другое. За ним бегала, стараясь его успокоить, испуганная Наташа, повторяя:
– Перестань, Юрочка! Перестань! Спину сломаешь!
Но он, не обращая на нее внимания, все продолжал неистовствовать, не зная, что еще сделать, чтобы освободиться от с ума сводившего его восторга и радости.
Когда много лет спустя мы с ним вместе смотрели фильм Чарли Чаплина, глядя на то, как Чаплин в пароксизме счастья выпускает пух из подушек, он взволнованно схватил меня за руку:
– Вот так! Совсем так и я, когда узнал, что я член Цеха. Только мне хотелось тогда не пух из подушек выпустить, а запустить в зеркало и перебить всю посуду. Но я все же не решился, из-за Наташи.
В тот же вечер он мне подробно рассказал об этом «сверхъестественном событии» и о первых своих шагах в Цехе поэтов.
Георгий Иванов в то время уже не был новичком в поэзии. Он даже успел «удостоиться высокой чести» быть одним из трех «директоров» «Директората» эгофутуризма, основанного Игорем Северяниным. Двумя другими «директорами» были: Константин Олимпов, полупомешанный, полуталантливый сын Фофанова, и Грааль Арельский – вечный студент Степан Петров, взявший по настоянию Игоря Северянина этот пышный псевдоним, – вполне нормальный и вполне бесталанный. Северянин советовал и Георгию Иванову сменить свою «невозможную» для поэта фамилию на «Цитерский» и стать Георгием Цитерским, на что тот не согласился.
Быстрая карьера, сделанная им у эгофутуристов, не могла не льстить ему, но все же не вполне удовлетворяла. Все это, хотя и забавляло Георгия Иванова, не казалось ему серьезным. Он совсем не разделял взглядов Северянина на поэзию и не чувствовал склонности к эгофутуризму, не шедшему ни в какое сравнение с акмеизмом Гумилева.
Свидание «для знакомства», назначенное Гумилевым в субботу на той же неделе, должно было произойти в «Бродячей собаке». В ней Георгий Иванов никогда еще не бывал. Ему, как «директору» эгофутуристического «Директората», ходить туда не полагалось. Там, по мнению главы эгофутуристов, собирались враги, там царил Гумилев со своим презренным штабом – Цехом поэтов, по мнению Северянина, сплошь состоявшим из «обнаглевшей бездари». «Бродячая собака» была табу. Но с этим Георгию Иванову и в голову не пришло считаться.
Оставшиеся до субботы три дня Георгий Иванов не ел, не пил и не спал от страха, что не произведет должного впечатления, «провалится на экзамене», – ведь его позвали «познакомиться», то есть на смотрины, – и всемогущий Гумилев еще может вычеркнуть его из списка членов Цеха.
И вот наконец наступила суббота. С утра его мучил вопрoc – какой галстук надеть. Конечно, не эгофутуристический бант, а синий в белые горошки, галстук-бабочку, что тогда считалось верхом элегантности, или темный, длинный, придававший ему хоть некоторую солидность.
Остановившись на длинном галстуке, он «облачился» в свой синий, свежевыглаженный костюм. Тут выбирать не пришлось: костюм был единственный, сшитый ему по выходе из корпуса; убедившись лишний раз, проведя рукой по подбородку, что бриться ему все еще незачем, он, покрутившись перед зеркалом и оставшись крайне недовольным своим непоправимо мальчишеским видом, в восемь часов вечера отправился в «Бродячую собаку».
«Страж врат» «Собаки», зорко следивший за тем, чтобы ни один беспропускной буржуй не проник в это «святилище», задал ему ритуальный вопрос: «На каком основании?» Георгий Иванов с гордостью протянул ему гумилевское письмо, и тот, узнав почерк Гумилева, молча отступил в сторону, разрешая ему войти.
«Собака» была почти пуста. Осмотрев всех присутствующих и убедившись, что Гумилева нет, он, как и полагается тут, в буфетной, сам раздобыл себе рюмку вина и сел с нею напротив входной двери. Томительно щемящее волнение, мучившее его все эти дни, продолжало терзать его и даже увеличивалось. «Собака» была совсем как ему описывали – точь-в-точь такая – и подвал, и расписные стены, столы без скатертей и скамьи. Но если бы даже она была совершенно иной, он так волновался, что едва ли заметил бы это.