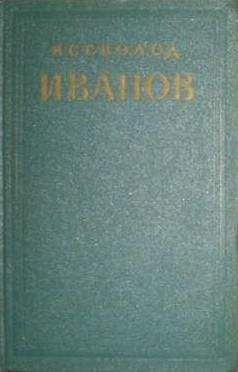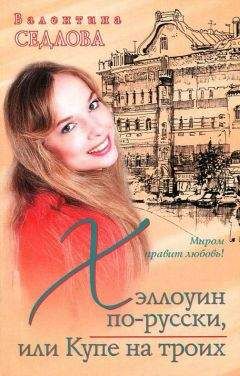Пока хозяйка доставала из шкафа посуду, ставила на стол калачи из сеянки, пироги с калиной и молотой черемухой, Емолин самоуверенно рассуждал:
— Ты возьми, Кубдя, меня. Из кого, ты скажи мне, я поднялся?..
Кубдя ждал с нетерпением, когда Емолин раскупорит бутылку с водкой, и потому с усмешкой отвечал:
— Никуда ты не поднялся.
— Врешь! Был я, скажем, лапотной пермской мужик, и теперь имею дом с железной крышей, и хозяйство честь честью, и почет ото всех.
— Ну и слава богу!
— Известно, слава богу, — подтвердил и Емолин, выбивая пробку и наливая водку в стаканчики, — только ни черта не понимаете вы. Пей!
— Да уж пейте вы… — по обычаю отказался Кубдя.
— Пей.
— Не буду.
Емолин выпил, скривив лицо, грязными, гнилыми зубами откусил кусок пирога.
— Крепка, стерва… Пей.
Кубдя выпил, скривил тоже лицо и сразу всунул в рот целый пирог.
— Да-а… — замычал он, — ничего себе!.. Крепка!..
— Пей!.. — сказал Емолин.
Кубдя уже не отказывался.
Емолин ел плохо, копошась длинными пальцами в хлебе, отламывая и откладывая в сторону корки. Кубдя же ел торопливо, глотая полупрожеванные куски. Глядя на его быстро двигающиеся желваки челюстных мускулов, Емолин с достоинством пил кирпичный чай и с достоинством рассуждал:
— Мало вы в народе кишите… В образованном народе, говорю, а потому доверие к другим плохое возбуждаете. А без доверия и курица яйца не снесет, не то что в народе жить…
Кубдя хватил стаканчик, и под ним мрачно закряхтел стул. Емолин продолжал:
— Ко власти стыд потеряли, одинаково с видмедями… За себя не стоите: черт вас знает, что вам требуется!.. Отдыхай, брат, Емолин, — и никаких!
Кубдя рыгнул и отодвинулся от стола:
— Спасибо, хозяин, за хлеб, за соль.
Емолин налил еще.
— Пей, Кубдя. А не за что благодарить-то.
Кубдя взмахнул рукой и удивился про себя, что жест такой легкий.
— Раз я благодарю, ты принимай — и никаких. А что отдыхать тебе, Емолин, то не придется.
— Почему так? Раз мы заслужим, почему не придется?..
— А так.
— А кто мне мешать смеет?
— Найдутся.
Емолин стукнул ребром ладони по столу.
— Нет, ты говори! Я знать желаю.
Кубдя улыбнулся и подмигнул:
— Найдутся, Егорыч, другие отдохнут за тебя… Ей-богу!..
— Сыны, что ли?
— Усе мы сыны, да не одного батьки. Во-от… Ты вот дом строишь, думаешь: «Отдохну, поживу…» Крепко, браток, строишь — с железной крышей, с голландской печкой, скажем. А тут — на тебе, выкуси! Не придется. Получится заминка.
— Какая!
Кубдя широко раскрыл слипающиеся глаза и вдруг тихо и часто-часто рассмеялся:
— Хо-хо-хо-хе-е… Дёрон вы зеленой, дёрон… Хо-хо-хе-е…
Емолин тоже рассмеялся:
— Хо-хо-хо-хе-е… Темень ты стоязычная, темень… Хо-хо-хо-хе…
Из прихожей выглянула хозяйка, посмотрела, махнула рукой:
— Ой, девоньки, уморят!
И залилась клохчущим, мелким смехом.
IIС похмелья голова у Кубди никогда не болела, только скверно и остро першило в горле — словно обожжено чем. Утром, проснувшись, Кубдя, задевая ногами то о ведро, то о доски, разбросанные по полу, долго искал ковш и, не найдя, охватил толстыми руками кадку с водой, поднял ее и, проливая блестящие капли в белые душистые опилки, напился.
Послушал, как булькает в животе вода, и вспомнил, что вчера нанялся к Емолину.
«Своей работы будто не хватает», — неодобрительно подумал Кубдя, отламывая хрустящую краюшку хлеба. Бабка Енолиха остро взглянула и крикнула ему:
— Опять пьянствовать, Кубдя? Базар-то кончился!
Кубдя потер пальцами глаза и ответил:
— Знаю.
— Робить надо.
— И то робить хочу.
— Так чего же в ворота-то поперся? Куда уходишь?
Кубдя, просовывая в рот кусок, заглянул в погреб. Там было прохладно и темно, а в избе мешали мухи.
Енолиха взглянула на него пристальнее, взяла отпотевшую по стенам кринку молока.
— Ешь, Кубдя. Чо всухомятку-то? Молоко-то седнишнее.
— Не люблю молоко, — сказал Кубдя и подумал: «Ребятам надо сказать. Вот ругаться будут, лихоманки!»
Енолиха отставила молоко.
— И то ведь ты не любишь.
Она спрятала руки под фартук, и широкий нос ее, похожий на яйцо, отвернулся от Кубди.
— Где робить-то?
— К Емолину нанялся.
— Один?..
— Артелью думам.
Старуха, припирая тяжелую, растрескавшуюся дверь потреба, тише говорила:
— Смелости у вас, у нонешних, нету, — все в артель метите. Вот и царь-то потому отказался от вас.
— Прогнали его.
— Ишь ведь… — недоверчиво растянула старуха. — Сказывай!
— Плохой царь был.
— Цари-то — они все плохи. Хороша-то нам и не надо.
— Пошто?
Старуха ловко подхватила пестерь с углями. На ходу она, немного не договаривая слова, бормотала:
— Цари-то должны быть плохи. Строго надо себя держать, — ну, кто строг, тот и плох. А без хорошего человека всегда жить можно. Вот царь-то хороший попал, ну, видит, дело плохо: с таким окаянным народом рази проживешь? Взял… да и ушел… Плюнул…
— Темень вы.
Обвислые щеки старухи покраснели. Она закинула пестерь на крыльцо и крикнула Кубде:
— А ты иди, лодырь, иди!..
— Уйду. Вот Колчаком-то, поди, довольна?
— Что он мне?
— Строгий.
— Всё не русски каки-то. Чехи, говорят, поставили из австрияков. Пленный он, что ли?
— Кто его знат.
— Я морокую, из пленных в германскую войну. Вот в Расеи — так там царица.
Кубдя пошел было, но остановился:
— Как царица! Ты что, Христос с тобой, бабушка?
— Ну, а воюют-то пошто. Вот из-за царства и воюют. Тут-то Толчак самый, а там Кумыния… Не поделили что-то, а хрестьяне отдувайся… Нашему брату не легче…
Она вынесла из сенок решето с крупой и тонким голосом зачастила:
— Цыпи-цыпи-цыпи…
Маленькие желтенькие цыплята, похожие на кусочки масла, выкатились из-под навеса.
По улицам медленно проходили запряженные волами длинные ходки переселенцев. Скрипели ярма. Нехотя поднимали теплую и мягкую пыль копыта волов. Изредка пробегал, дребезжа, коробок киржака-старожила. Киржак лениво, одним глазом оглядывал ходки переселенцев и крупно стегал кнутом маленькую лошадь. Вдоль улицы в жирной, черной тени лежали парнишки и собаки, а вокруг села из-за изб густо и сыро зеленел забор тайги.
Кубдя шел к товарищам неохотно. Вчера, по пьянке, он много наговорил Емолину и о себе и о ребятах. И сейчас он тревожно думал: «А как, черти, не согласятся! Вот состряпают мне».