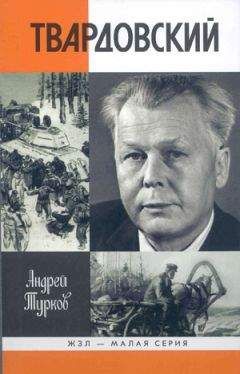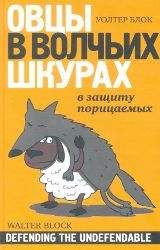Вася Тёркин был «богатырь, сажень в плечах», расправлявшийся с противником запросто («врагов на штык берет, как снопы на вилы»).
Василий же — «парень сам собой… обыкновенный… Не высок, не то чтоб мал». Никаких умопомрачительных подвигов не совершает.
Однако, утратив богатырские стати, новый герой «не прогадал»: душа у него богатырская, щедрая уже не только на удалую выходку и лихое словцо, но чем дальше, тем больше проникновенно отзывающаяся на все происходящее вокруг, или, говоря словами поэта, на «всю огромность грозных и печальных событий войны».
В послевоенной статье Твардовского «Как был написан „Василий Тёркин“» (1951) сказано: «Я недолго томился сомнениями и опасениями относительно неопределенности жанра, отсутствия первоначального плана… слабой сюжетной связанности глав между собой. Не поэма — ну и пусть себе не поэма, решил я; нет единого сюжета — пусть себе нет, не надо; нет самого начала веши — некогда его выдумывать; не намечена кульминация и завершение всего повествования — пусть, надо писать о том, что горит, не ждет, а там видно будет, разберемся. И когда я так решил, порвав все внутренние обязательства перед условностями формы и махнув рукой на ту или иную возможную оценку литераторами этой моей работы, — мне стало весело и свободно».
Свобода — второе после правды «ключевое» слово, определившее звучание книги и ее успех у самых разных читателей.
Впоследствии Твардовский вернется к этим размышлениям:
«Каково бы ни было ее собственно литературное значение, для меня она была истинным счастьем. Она мне дала ощущение законности места художника в великой борьбе народа, ощущение очевидной полезности моего труда, чувство полной свободы обращения со стихом и словом в естественно сложившейся непринужденной форме изложения».
Не менее важно, что этой, так сказать, профессиональной свободе предшествовала и обусловливала ее свобода самого взгляда на жизнь (вспомним: «О том, что знаю лучше всех на свете, /Сказать хочу. И так, как я хочу!»), страстный, самозабвенный порыв к художественному воплощению правды о войне, обо всем, что она принесла с собой, что открыла, о чем заставила задуматься.
И как знаменательно, что в самом, быть может, драгоценном для поэта отзыве на эту книгу, дошедшем до него уже после войны из парижской эмиграции, — письме одного из любимейших авторов Александра Трифоновича и чрезвычайно взыскательного судьи — звучат те же «мотивы»!
«…Я только что прочитал книгу А. Твардовского („Василия Тёркина“), — говорится в письме Ивана Алексеевича Бунина старому другу Николаю Дмитриевичу Телешову, — и не могу удержаться — прошу тебя, если ты знаком и встречаешься с ним, передать ему при случае, что я (читатель, как ты знаешь, придирчивый, требовательный) совершенно восхищен его талантом, — это поистине редкая книга: какая свобода, какая чудесная удаль, какая меткость, точность во всем и какой необыкновенный народный, солдатский язык — ни сучка, ни задоринки, ни единого фальшивого, готового, то есть литературно-пошлого слова».
Вернемся еще раз к рассказу поэта о том, как он «пускался в путь»: «не поэма — ну и пусть… нет единого сюжета — пусть…» и т. д. — вплоть до «там видно будет, разберемся». Не напоминает это вам знакомое — пушкинское?
И даль свободного романа
Еще неясно различал.
Не то же ли испытал Твардовский счастливое ощущение — открывающейся впереди дали (слово, которое так же, как «переправа», или ее «муравский» предок — «перевоз», как «память», станет потом вечным спутником его поэзии) и свободы?
Свободы небывалой, подчас трагической, сталкивающей с чем-то неведомым, неожиданным, даже озадачивающим самого поэта?
Помните, какую «штуку удрала» с Пушкиным Татьяна своим, не предусмотренным автором, поступком — выскочила замуж?
Вот и Тёркин, хотя Твардовский и предчувствовал еще в самом начале работы, что «этот парень пойдет все сложней и сложней», вдруг оборачивался такими новыми сторонами, которые и не предугадать было.
«Я порой стою, как над пропастью, — страшно и сладко думать, что еще удастся в ней („Книге про бойца“. — А. Т-в) повысказать», — признавался поэт жене.
Василий Тёркин — подлинный, поразительно верно нарисованный русский национальный, народный характер.
Василий Тёркин.
Рисунок художника А. КаневскогоЕсть такая точка зрения, будто наиболее верное свидетельство народности героя — это простота, если не простоватость его натуры. Между тем, как напомнил один из исследователей творчества Твардовского, П. Выходцев, Щедрин считал необходимым для художника, изображающего людей из народа (причем речь шла еще о крепостном или только что освобожденном крестьянстве), «разглядеть то нравственное изящество, которое они в себе заключают».
И, даже знать не зная щедринского выражения, самые разные читатели «Книги про бойца» были привлечены и покорены этим постоянно и разнообразно проявляющимся свойством тёркинской натуры.
Начать с того, что герою в высшей степени присуща именно такая любовь к родине, о которой с восхищением писал Толстой, — «…чувство, редко проявляющееся, стыдливое в русском, но лежащее в глубине души каждого» (в другом случае Лев Николаевич скажет о «скрытой теплоте патриотизма»), Тёркин, которому не надо лезть в карман за острым словцом, не больно горазд на лирические признания или «гражданские» декларации. Громкое слово, «героическая» поза ему так же не пристали, как одежда с чужого плеча. И читатели, в особенности солдаты, это чувствуют.
Когда при вести о мнимой гибели Тёркина кто-то передает приписываемые герою предсмертные слова, эта трафаретно-патетическая фраза звучит так неправдоподобно и фальшиво, что сам рассказчик мнется:
— Говорил насчет победы,
Мол, вперед. Примерно так…
И недоверчиво выслушав эту версию, все зато с полным ощущением истинности принимают другую:
— Жаль, — сказал, — что до обеда
Я убитый, натощак.
Неизвестно, мол, ребята,
Отправляясь на тот свет,
Как там, что: без аттестата
Признают нас или нет?
Читательское, солдатское сердце чутко: если Тёркин умер — то точно так же, как жил, просто, быть может даже — с прибауткой, но уж без всякой «картинности».
Ведь они и сами такие! Девушка, запечатленная Твардовским в очерке «Костя», ответила на вопрос о причине ее патриотического поступка чисто по-тёркински: