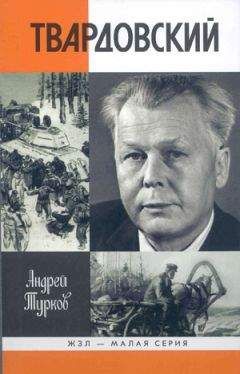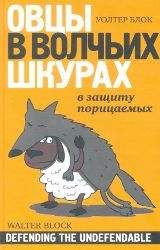Уже появляются строки, очень похожие на те, что откроют будущую книгу, — о том, что на войне как без пищи не прожить, так и без прибаутки. Однако в этих ранних набросках еще нет «ключевых» слов, ставших знаменитыми, поистине «программными» не только для рождающейся «Книги про бойца», но и для всего дальнейшего творчества ее автора, слов, выразивших цель, задачу, мечту поэта (тут каждое слово к месту):
А всего иного пуще
Не прожить наверняка
Без чего? Без правды сущей.
Правды, прямо в душу бьющей,
Да была б она погуще,
Как бы ни была горька
Слово было найдено, произнесено. И пошло! Черновые наброски быстро преобразились в такие основополагающие главы, как «На привале», «Переправа», а также некоторые другие, пополнившись совсем новой главой, вобравшей драматические впечатления минувшего лета, — «Перед боем».
«Когда я отделывал „Переправу“, — писал поэт жене 27 июня 1942 года, — еще не знал, что впрягаюсь в поэму, и потом все сильнее втягивался, и вскоре у меня было уже такое ощущение, что без этой работы мне ни жить, ни спать, ни есть, ни пить».
Мощный и грозный зачин «Переправы»:
Переправа, переправа!
Берег левый, берег правый,
Снег шершавый, кромка льда…
Кому память, кому слава,
Кому темная вода, —
Ни приметы, ни следа, —
и вся страшная картина гибели «наших стриженых ребят» настраивали на мужественное осознание всей трудности борьбы с лютым врагом, неизбежности напряженных ратных усилий и горчайших потерь.
А картины прошлогоднего отступления перекликались с драмой нового отхода наших войск «во глубину России», и строки: «То была печаль большая, как брели мы на восток», отзывались в читателях свежей, острой болью.
Случилось так, что первые главы поэмы появились в печати в сентябре, в труднейший, трагичнейший час войны, когда враг рвался к Волге, вскоре после известного сталинского приказа от 28 июля 1942 года № 227. Это, может быть, облегчило путь книги к читателю, поскольку драматизм ситуации побудил и самого автора приказа к необычно горькой правде, весьма жесткой характеристике поистине отчаянного положения, сложившегося на фронте от Сталинграда до кавказских гор: «Отступать дальше — значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину. <…> Ни шагу назад!»
Но какая же огромная разница была между зачитывавшимся в воинских частях приказом и тем, что говорилось в «Книге про бойца» (и для бойца!).
Конечно, приказ был продиктован суровой военной необходимостью, однако вместе с тем нес черты, вообще присущие его автору и созданной им системе.
На истекавшую кровью армию обрушивались обвинения в «позорном поведении» («Часть войск Южного фронта, идя за паникерами, оставила Ростов и Новочеркасск без серьезного сопротивления и без приказа из Москвы, покрыв свои знамена позором») и даже в «преступлениях перед Родиной». И эти обличительные ноты возникли в некоторых стихах той поры, например, у Константина Симонова:
Опять мы отходим, товарищ.
Опять проиграли мы бой…
Кровавое солнце позора
Заходит у нас за спиной.
(«Безыменное поле». Курсив мой. — А. Т-в)
«Тёркин» же был разговором с солдатами по душам, задуманным автором задолго до грозных событий лета сорок второго, но удивительно пришедшимся к месту в эти тяжелейшие дни.
Поэт не осуждал, а воистину восславлял простого бойца, подлинного героя и вместе с тем великого мученика этой войны, который с лихвой расплачивался не только за собственные промахи, неопытность, неумелость, но и за все просчеты, ошибки, даже преступления, совершенные самим Верховным и накануне войны, и в ее ходе.
Шел наш брат, худой, голодный,
Потерявший связь и часть,
Шел поротно и повзводно,
И компанией свободной,
И один, как перст, подчас.
Такого солдаты о себе еще не читывали! Это был на редкость реалистический портрет многомиллионного «адресата» сталинского приказа:
Шел он, серый, бородатый,
И, цепляясь за порог,
Заходил в любую хату,
Словно чем-то виноватый
Перед ней. А что он мог!
Герой книги — сам из тех, кто «дорогою постылой» отступления прошел «в просоленной гимнастерке сотни верст земли родной».
Вышло так, что, нимало не задаваясь этой целью (тем более что начал писать «Тёркина» до приказа), поэт, в сущности, вступал в полемику с ним. Много позже, уже на пороге победы, Твардовский вновь припомнит злоключения рядового бойца в первые годы войны:
Приходилось парню драпать,
Бодрый дух всегда берег,
Повторял: «Вперед, на запад»,
Продвигаясь на восток.
Между прочим, при отходе,
Как сдавали города,
Больше вроде был он в моде,
Больше славился тогда.
И по странности, бывало,
Одному ему почет,
Так что даже генералы
Были будто бы не в счет.
Срок иной, иные даты.
Разделен издревле труд:
Города сдают солдаты,
Генералы их берут.
Вряд ли можно предполагать тут сознательный намек на давний приказ, но, даже помимо авторской воли, стрела этой горькой и гневной иронии угодила куда выше, чем непосредственно метил поэт.
К сожалению, «Василий Тёркин» долго казался части читателей, критиков да и коллег автора просто веселой и даже незатейливой историей бывалого и удачливого солдата.
Искренняя и страстная почитательница Анны Ахматовой, Лидия Чуковская горестно засвидетельствовала ее сказанные с «неприятной, презрительностью» слова: «„Тёркин“?! Ну, да, во время войны всегда нужны легкие солдатские стишки». Другую великую поэму, «Дом у дороги», она, по убеждению Лидии Корнеевны, вовсе не читала (как, думается, и большинство глав «Книги про бойца»!). В полном согласии с Ахматовой и будущий нобелевский лауреат Иосиф Бродский тоже говорил о «плясовой» «Тёркина». Что это за «легкие стишки» и «плясовая», мы уже частично видели и еще множество раз ощутим.
Да и для некоторых других литераторов и простодушных читателей новый Тёркин — чуть ли не двойник своего предшественника — Васи, лубочного персонажа, в создании которого Твардовский в финскую войну принял весьма малое участие.
Потом, как это в подобных случаях уже бывало в литературе, поэт решительно «присвоил» его и претворил совсем в другую фигуру, несравненную по глубине проникновения в судьбу и характер героя.