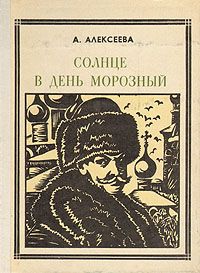Композитор Скрябин собирался возгласить новой религией музыку, которая объединит всех людей космоса в общем экстазе…
Писатель Ремизов (портрет которого Кустодиев делал уже дважды) говорил о том, что в минуту опасности дети припадают к матери, человек — к истории родины, вот почему все жадно набросились на молоко от сосцов Волчицы-Истории… Был он забавен, как старичок-полевичок, коллекционировал старые русские слова, собирал старинные игрушки, матрешек, уродцев, кикимор. И сам походил на них.
Он, Кустодиев, ищет в прошлом то, чего не хватает настоящему, цельность.
Судьба России, ее история, ее будущее занимали его, как и всю русскую интеллигенцию. Блок говорил: "Родина, подобно лицу матери, не испугает никогда ребенка". Кустодиеву хотелось добавить: "Но ребенок может разгладить морщины матери".
В конце февраля 1914 года сговорились, что художник будет лепить голову Блока. Со свойственной ему краткостью и аккуратностью Блок записал тогда в своих записных книжках:
"27 февраля. Вечером к Кустодиеву. 3 1/2 часа позировал стоя и не устал. Вымазался пластилином".
…Послеобеденное время. Юлия Евстафьевна в платье с белым гипюровым воротником, которое делало ее похожей на гимназистку, сидела на диване и читала стихи:
Осенний день высок и тих, Лишь слышно — ворон глухо Зовет товарищей своих Да кашляет старуха.
Тут позвонили в дверь, и вошел Блок. Он был красив и строен, но с первого же взгляда Кустодиев увидел в его лице какое-то беспокойство. Следы усталости, быть может, бессонной ночи. Глаза холодноватые, настороженные.
Кустодиев любовался головой Блока, ему доставляло удовольствие изучать это лицо: крупный нос, большие, изменчивые глаза, — ловить за внешней сдержанностью душевный трепет. И радовался натуре — ведь он мог хорошо работать лишь тогда, когда "любил натуру".
Кустодиев с увлечением мял в руках пластилин. Через некоторое время Блок спросил, работает ли телефон, и пошел в коридор позвонить.
Вернулся он совершенно иным. Лицо словно засветилось изнутри. Глухим голосом говорил малозначащие слова, но чувствовалось сдерживаемое волнение. Откинул голову. Крылья носа трепетали. Он словно не замечал никого, погруженный в собственные мысли.
Это было именно то выражение в лице Блока, которого давно ждал художник. Он быстро ощупал пальцами скульптурный портрет. Ах, никак не давались эти веки! Крупные, «полумесяцем», «прозрачные» веки! Пластилин послушно плавился под пальцами. Кустодиев торопился.
И вдруг лицо поэта опять померкло. Какая мысль посетила его?
Кустодиев в изнеможении опустил руки.
Вошла Юлия Евстафьевна, сказала, что стол накрыт, она ждет их. Подошла к мужу, помогла ему встать. Он оперся о ее плечо, как-то виновато посмотрел на гостя. И все направились в столовую. Там уже дети в нетерпении ждали отца.
Поэт взглянул на счастливое лицо больного художника и отвел глаза, боясь быть угаданным. Зная о физических болях Кустодиева, он страдал сам. В записной книжке Блок пометил: "Почти болен перед Кустодиевым".
После чая Кустодиев решил показать Блоку картину, которую он делал по заказу Нотгафта.
— Непременно хочу знать ваше мнение, — сказал Борис Михайлович.
Это были «Купчихи».
Блок смотрел долго. А потом заговорил о том, что символы неотделимы от искусства, что женщина — символ России. Но для разных художников это разная женщина. Например, у Андрея Белого Россию-женщину заколдовал злой колдун, механический колдун XX века. У Кустодиева эти женщины символизируют Россию радостную, праздничную, но не спит ли она в своем довольстве?
Под умный говор сказки чудной Уснуть красавице не трудно, — И затуманилась она, … Заспав надежды, думы, страсти…
Кустодиев слушал, удивляясь проницательности Блока.
Простились они тепло, каждый уносил в душе чувство радости и взаимного понимания.
…С первыми летними днями 1914 года семья художника уехала, как всегда, под Кинешму. С упоением писал там Кустодиев «Терем», пейзажи Костромской губернии, жатву в деревне, наслаждался миром и солнечным светом.
Был тихий летний полдень. Он лежал в гамаке, в тени берез, и мечтал о том, как осенью поедет в Москву, пойдет к Грабарю в Третьяковскую галерею посмотреть новую экспозицию, как встретится с Луж-ским в Художественном театре, побродит по москворецким улочкам, а там, глядишь, и зима. Снова берлинская клиника, хирург Оппенгейм, операция, и он сможет не только ходить с палочкой, но плавать и, как прежде, ходить на охоту.
Пахло мятой, цветами, малиновым вареньем и тем густым ароматом, что дают зрелые июльские травы.
Скрипел коростель. Жужжали осы. Все эти запахи и звуки, казалось, плавились в знойном июльском воздухе под солнцем.
Вдруг со стороны дороги послышался стук копыт, все нарастающий шум колес, и через минуту совсем близко промчалась бричка, в которой стоял в рост человек в картузе и кричал, повторяя одно слово: "Война, война! Война с германцами!"
Кустодиев вздрогнул.
Дети перестали качаться на качелях.
Собака с лаем бросилась за бричкой.
Через несколько дней Борис Михайлович писал в письмах:
"Как все это неожиданно и стремительно быстро произошло, и все и вся перевернуло вверх дном".
"Выбит из колеи всем этим. Работать не хочется, что делалось раньше с увлечением, теперь потеряло смысл".
"Здесь кругом стоит вой и рев бабий — берут запасных… Моего брата, видимо, возьмут, если уже не взяли, он в Петербурге инженером и недавно отбывал воинскую повинность".
"Очень хочется ехать в город отсюда, все-таки ближе к большой жизни жить теперь в деревне и вести растительно-созерцательную жизнь как-то стыдно".
Когда он приехал в Москву, на улицах проходили манифестации. Пришло известие о победах наших войск на галицийском фронте, В церквах пели с амвона, слазили царя. Кричали о "всеславянском братстве".
А в это время брат Михаил, которого взяли в армию, писал о беспорядках на фронте. В газетах печатались списки убитых.
Смутно было на душе у Бориса Михайловича. Сразу заныли старые раны. В голове громоздились мысли о смертельной опасности для брата, о бедствиях всего народа. И все эти мысли завершала одна, очень личная: "Итак, я отрезан от единственного человека, который может меня спасти…" Немецкий профессор из берлинской клиники был недосягаем, через границу проходил фронт.
Он сидел на высоком берегу Волги, там, где вливается в нее Ока и на десятки верст открываются широченные русские дали. И делал набросок в альбоме.