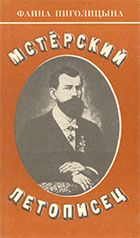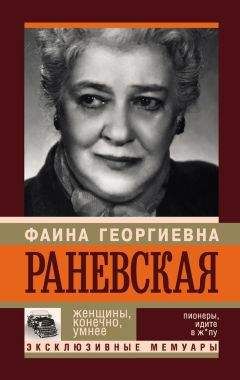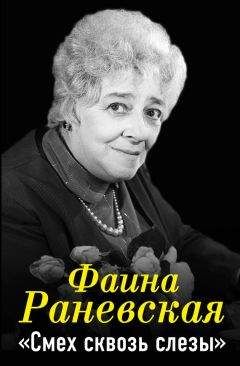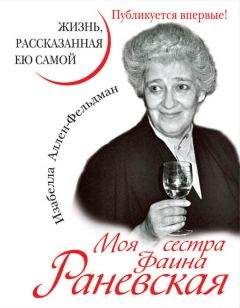Снегирев в книжке растолковывал, что в древности в России «писывали на лубе» — липовых дощечках.
Профессор высказал и другие предположения. Офени-де прежде разносили картинки в лубках — лубяных коробах. А может быть, что название картинок пошло от московской улицы Лубянки, близ коей находится урочище Печатники, Печатная слобода была в семнадцатом веке, и где, по старинному преданию, жившими тут печатниками резались на лубах и отпечатывались первые русские картинки. Ну, а так как эти картинки, вырезанные на дереве, получались не очень искусными, то слово «лубочные» получило второй смысл — грубые, плохого качества. И уж совсем задело Ваню сообщение, что картинки самого плохого исполнения называют суздальскими, по разносчикам-суздалям, ибо именно в Суздальском уезде появились первые коробейники — продавцы картинок.
Однако оказалось, что картинки в прошлом веке висели и в крестовых палатах, и в сенях у больших господ и духовных властей, и еще раньше — для пригожества — у бояр. Что в монастырях духовные картинки в благословение и напутствие раздавали богомольцам. Это уж потом, когда появилась Академия художеств, искусство стали делить на высшее и низшее. И прикладное искусство, которое в жизни древнего русского человека играло большую роль, академией было окрещено низшим, простым ремеслом.
Ваня уже твердо решил, что будет, как отец, торговать картинками. Хотелось бы и печатать их самому. А пока он начал рисовать их для Лаврентьевой. Когда первая его картинка, вырезанная граверами на меди, была оттиснута, радости мальчика не было конца.
— И зачем отец покупает картинки в Москве?! Печатать их можно и во Мстёре, — запальчиво говорил он, не искушенный в делах, Лаврентьевой.
Лаврентьева возражала, что во Мстёре содержать металлографию сложно. В Москве можно обойтись без своих граверов, привлекать их со стороны, во Мстёре же придется содержать своих, а для маленького заведения это слишком накладно, много и других трудностей. А вот литографию небольшую можно завести и во Мстёре, и Лаврентьева советовала Ване приглядываться к литографии Логинова, в которой он нередко бывал с поручениями отца.
Литография — печатание с помощью литографского камня — только зарождалась в России. На проекте школы графа Строганова в свое время было помечено рукой министра народного просвещения: «…притом полезно бы было прибавить литографское и граверное отделение для изготовления печатных образцов, как для школы, так и для самих фабрикантов и ремесленников». И школа завела тогда одну литографскую машину с винтом и один дубовый пресс, и литография эта при ней просуществовала несколько лет, но потом по разным причинам оборудование и камни были распроданы. Произошло это за два года до поступления Вани Голышева в Строгановскую школу. А будь литография в самой Строгановке, скольких бы трудностей избежал мальчик, обучаясь литографскому делу самостоятельно и даже украдкой от школьного начальства. И, возможно, не бросил бы школу, имей она свою литографию.
В каникулы строгановцы рисовали с натуры в цветниках Трубного бульвара и в окрестностях Москвы, после чего разъезжались по домам. Ваня Голышев никогда не упускал возможности съездить домой и, бывало, не дожидаясь отцовских денег или какой оказии, договаривался задешево с ямщиком и трясся триста верст на задке.
Однажды Ваня ехал из Москвы на долгих с обозом вяз-никовского купца Осипа Осиповича Сенькова. Дорога длинная, познакомились и наговорились всласть. Отец Сенькова выкупился из мстёрских крепостных еще при графе Тутол-мине, завел в Вязниках мануфактурное производство, вышел в купцы, а сыну передал уже вторую гильдию. Осип Осипович был намного старше Вани Голышева, владел большим заведением, был начитан, умен, ни капли не чванлив и разговаривал с Ваней как со взрослым. Мальчик разоткровенничался, рассказал о своем увлечении литографией, о мечте завести собственное дело во Мстёре, о Строгановской школе, показал свои рисунки. Сеньков одобрил Ванин замысел, сказал, что мечта его выполнима, надо только не робеть, действовать, обещал поддержку, дал свой адрес и велел заходить к нему, когда будет в Вязниках. Ваня в ближайшие же дни воспользовался приглашением, уж очень ему понравился Осип Осипович. У Сенькова умер в малолетстве единственный сын, росли теперь одни девчонки, и мануфактурщик отечески привязался к своему юному талантливому земляку. И дружба Вани Голышева с опытным заводчиком, мануфактур-советником Сеньковым, конечно, способствовала раннему развитию предприимчивости мальчика.
Ваня брал с собой на лето из школы оригиналы, чтобы перерисовывать. Но больше ему нравилось рисовать с натуры. И он часто уходил за околицу Мстёры, устраивался где-нибудь на взгорке и рисовал реки Мстёру и Тару в зеленых тальниках, широкие пойменные луга, синеющие в за-клязьминском заречье боры. Возвращался под вечер, и Татьяна Ивановна выговаривала ему: «И где только пропадаешь?! Гостить приехал, а дома не видать». А Александр Кузьмич нарадоваться не мог на сына: учится хорошо, переведен уже в третий класс, в «акварельный», рисует, как настоящий художник, и отцовы дела в Москве ведет исправно.
Да, Ваня начал учиться уже в третьем классе, но со второго, в тайне от отца, стал подумывать о том, как бросить школу. В одном классе с Голышевым учились крепостные крестьяне помещика Гарднера, владельца подмосковных фарфоровых и фаянсовых фабрик. На учебу их прислал сам крепостник, с тем чтобы потом они вернулись на его фабрики. Мальчишки рассказывали про всякие жестокости управляющих, о том, как груб и деспотичен сам фабрикант, как заставляет работать в цехах с утра до ночи, а им хотелось к себе домой, в деревню. И они учились неохотно, частенько нарочно отлынивали от занятий, предполагая, что неуспех в рисовальной школе избавит их от Гарднеровых фабрик и даст возможность вернуться домой, к родителям.
Оказалось, что таких крестьянских детей, посланных на учебу помещиками, в школе немало. И все они потом должны были вернуться к своему владельцу. Школа даже аттестата не выдавала выпускникам податного сословия. Для получения аттестата, и после полного, шестилетнего курса, надо было сначала добиться у своего хозяина «вольной». Некоторым это удавалось. Ваня Голышев на «отпускную» не надеялся, граф Панин «волю» никому не давал. Мало того, Ваня стал бояться того, что Панин тоже оторвет его от родного дома, потребует после школы в свою дворню, исполнять для него художественные прихоти. Хотя об освобождении крестьян говорили уже и вверху и внизу, по-прежнему даже продавали людей, правда — тайно. Называлось это «отпустить в услужение». В газетах можно было прочитать такие объявления: «отпускается в услужение молодой человек, холостой, хорошо знающий грамоту и живописное искусство».