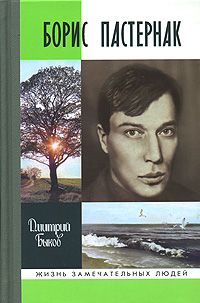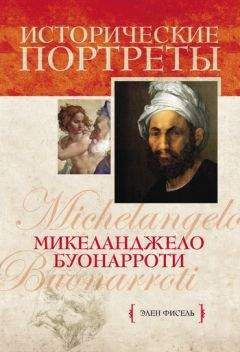Известно, что Гёте бесконечно пытался избыть собственную вину – он был причастен к вынесению смертного приговора за детоубийство, его преследовала эта тема; с тех пор «Фауст» – в котором сокрыто куда больше, чем мы можем себе представить, – оказывает роковое влияние на судьбы всех, кто берется за обработку этого сюжета. Можно было бы проследить темные пересечения биографий Фета, Брюсова, Булгакова, обоих Маннов с судьбой проклятого доктора. Пастернак, однако, и представить не мог, как перевод – расцениваемый им поначалу исключительно как способ заработка – скажется на его судьбе. «Дорогой мой друг Нина, подумайте, какое у меня горе, и пожалейте меня. Жизнь в полной буквальности повторила последнюю сцену „Фауста“, „Маргариту в темнице“. Бедная моя О. последовала за дорогим нашим Т. Сколько она вынесла из-за меня! А теперь еще и это» – это из письма Нине Табидзе от 15 октября 1949 года. Поневоле начнешь бояться роковой власти текста над судьбой – ведь тем, кто арестовывал Ивинскую, дела не было ни до какого «Фауста», они знать не знали, что Пастернак работает над переводом!
Совпадения, однако, продолжались. Теперь Пастернаку надо было содержать еще и семью Ивинской – мать и двух детей. Для заработка он взялся за вторую часть «Фауста» – которую никогда не любил. В этой части Фауст проходит через соблазны власти и славы; под знаком небывалой власти и славы проходит у Пастернака все следующее десятилетие. Теперь его будут покупать иначе, хитрей, чем в тридцатых; из этого опять ничего не выйдет, но на этот раз он поплатится жизнью.
Мы подходим к периоду биографии Пастернака, вызывающему едва ли не больше споров и нареканий, чем его поведение в тридцатые годы. Речь идет о временах, когда после знаменитого долгого «да-да-да», говорившегося эпохе, друзьям, женам, – зазвучало резкое пастернаковское «нет».
В этом одно из сходств его биографии с толстовской. Есть буквальные, забавные пересечения: «Война и мир», как известно, называлась вначале «1805 год», – Пастернак явно не без умысла назвал революционную поэму «Девятьсот пятый год». Но это вещи внешние, – внутренние сходства глубже. Поздний Толстой презрительно и с раздражением говорил о литературе и считал, что литераторов должно быть как можно меньше. Еще одна существенная параллель – Пастернак, как и Толстой, ушел непримиренным и к концу жизни все больше злился на власть, на равную глупость оппонентов и последователей, на жену – которая, надо сказать, в большинстве случаев вела себя умней и тактичней Софьи Андреевны, хотя крест ей выпал не менее тяжкий… Как поздний Толстой, Пастернак окружил себя немногими вернейшими, которых резко выделял из числа гостей и друзей дома: с ними он был мягок, ласков, откровенен – с остальными резок, почти груб. Как поздний Толстой мог любую тему свести на необходимость любить всех, так и Пастернак в последние годы сводил все разговоры на роман и неортодоксально-христианскую философию, выраженную в нем. О своих ранних опытах и Пастернак, и Толстой в старости говорили с раздражением. Совпадают и внешние реалии их жизни: за границей Пастернак и Толстой в старости становятся кумирами и воспринимаются как фигуры почти библейского масштаба – в Отечестве отношение к ним сложное, неоднозначное и порой издевательское. Толстому собираются присудить Нобелевскую премию – он заранее отказывается; Пастернаку присуждают, отказывается и он, хотя вынужденно. Переделкинская дача и Ясная Поляна становятся местом паломничества – среди паломников как ищущие Бога интеллигенты, так и «темные люди», стихийные искатели истины. При проповеди труда, сдержанности и аскезы – дом постоянно полон гостей. Пастернак был исключен из Союза писателей – Толстой отлучен от церкви, хотя это и события по сути несоизмеримые. Можно только гадать о мучениях Пастернака, останься он в живых и наблюдай, как Толстой, за полицейской расправой над его молодыми читателями и духовными учениками в шестидесятые годы, услышь он, как Хрущев кричит на Вознесенского, узнай о том, что за хранение и распространение его романа дают срок… Толстой в конце жизни мечтал о том, чтобы его как главного толстовца, противника судов, земельной собственности и воинской повинности – арестовали. Пастернак ареста боялся, – но несколько раз говорил, что это избавило бы ситуацию от тягостной двусмысленности и внесло наконец определенность как в его положение, так и в образ власти.
Конечно, статусы Толстого и Пастернака соотносятся примерно как яснополянские угодья с переделкинской дачей, – и тем не менее, пусть применительно к выродившейся советской реальности, Пастернак в пятидесятые годы продолжает линию позднего Толстого, наследуя, правда, не художественные, а нравственные его принципы. Да и в художественном отношении он старается следовать ему – писать четче, проще, «голее»; в «Докторе Живаго», как и в «Фальшивом купоне», и в «Отце Сергии», – слышится библейская интонация. Различие тут в другом – Пастернак пишет роман-сказку, а Толстой стремится к предельной реалистичности, и многое в «Докторе» наверняка показалось бы ему выдумкой, украшательством, – но тут уж ничего не поделаешь, сказывается изначальное различие темпераментов. Даже поздний Пастернак бесконечно мягче позднего Толстого; а впрочем – сходство «Доктора» с поздней толстовской прозой усугубляется и тем, что Толстой тоже любил притчевые сюжеты, и вряд ли в упомянутом «Отце Сергии» намного больше фабульной достоверности, чем во «Враче Юрии». Один из главных упреков, предъявляемый Пастернаку и Толстому, одинаков: мужики (в случае Пастернака – еще и фабричные, и железнодорожники) говорят у них не так, как в жизни. Искусственны толстовские подделки под народную речь, рассказы его «Азбуки», косноязычие Акима из «Власти тьмы» с его бесконечными «тае»; о том, что пастернаковские герои говорят языком Даля и Островского, писано-переписано. Между тем и Толстой, и Пастернак по призванию не стенографы – их делом было сгустить народную речь почти до пародии: акимовское «тае» так же запоминается, как какая-нибудь пастернаковская «жужелица-зуда» или «Громековы бывшие».
Поздний Пастернак так же отрекся от своего «класса», как Толстой – от своего. Пастернаку в пятидесятые годы отвратительна писательская среда, литературная и артистическая богема; понимания он ищет у немногочисленных молодых друзей и у самых простых людей. Как и Толстой, Пастернак переживает мучительные периоды сомнений в своей правоте – не могут же все быть настолько неправы, а он один настолько прав!