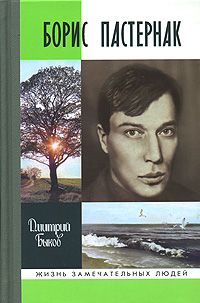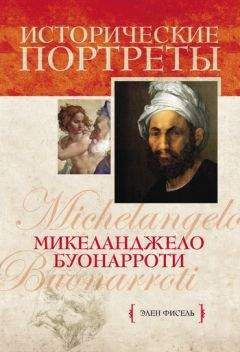Свои письма к ней Пастернак подписывал: «Твоя мама». Эта трогательная конспирация умиляла ее особенно.
Ее освободили по амнистии в 1953 году. Пастернак осторожно попросил Иру намекнуть матери, что прежние отношения между ними немыслимы. Ирина отказалась: «Разбирайтесь сами». Она была права. Пастернак пришел в квартиру в Потаповском переулке, увидел похудевшую, помолодевшую, по-прежнему неотразимую Ивинскую – в пятьдесят третьем никто не верил, что ей уже сорок один! – и все возобновилось с прежней силой. Жене он в открытую заявил, что прежняя жизнь между ними невозможна, что он будет отдавать ей некоторую сумму денег, а жить, ночевать, работать там, где ему удобнее. «Меня это устраивало», – холодно замечает Зинаида Николаевна в мемуарах.
Так начался период почти идиллический: Пастернак заканчивал роман, Ивинская с дочерью перебрались ближе к Переделкину и снимали угол у местного жителя, носатого, сильно пьющего Кузьмича. Пастернак в буквальном смысле дневал и ночевал у них и с Кузьмичом сошелся; они серьезно, взаимоуважительно толковали об искусстве и политике. Многие речения Кузьмича попали впоследствии в роман; персонаж был колоритный, преданно ухаживал за парализованной женой, но все время пугал ее, что привезет домой «турчанку с фестиваля» (Молодежный фестиваль 1957 года был первым веянием оттепели). Узнав, что Пастернаку присуждена Нобелевская премия, – несметные деньги! – Кузьмич стал чаще приставать с просьбой о чекушке; Пастернак серьезно, истово объяснял ему, что от премии отказался.
Но пока до премии еще было далеко: в крошечную комнату Ивинской он ходил ежедневно, она и дочь издали узнавали его – идущего через мост в неизменной кепке, резиновых сапогах и простом, грубом плаще. Новых знакомых – а их в это время становится больше, люди уже не боятся разговаривать и идут к нему потоком, знакомиться, слушать стихи, – он приглашает сначала на дачу, к Зинаиде Николаевне, – а потом, «если человек хороший», ведет «к Лелюше».
Ахматова отказалась ее принять, когда Ивинская была в Ленинграде; Лидия Чуковская с ней раззнакомилась. Может быть, виновата была своеобразная ревность, а может быть, сыграли свою роль сплетни. Ходил слух, что Ивинская присваивала деньги, переданные ей для арестованной подруги. Поэты и их возлюбленные вечно витают в облаках, забывают о бытовых обязанностях, долгах и обещаниях – все это легко выдать за злонамеренность, а то и нечистоплотность. Лидия Корнеевна принадлежит к числу столь безупречных людей, что, право же, для придания ее облику милых человеческих черт хочется иной раз вообразить ее не столь твердокаменной, придумать ей хоть какую-нибудь слабость вроде курения или пристрастия к анекдотам! Ничего подобного: моральная твердыня. Что удивительно, в быту она была проста, весела, остроумна, – но когда писала, ее пером водила Немезида. Нам неизвестно, действительно ли Ивинская присваивала деньги, предназначенные для арестованной подруги. Она всю жизнь наотрез отрицала это.
Она была женщиной истеричной, эгоистичной, непоследовательной, взбалмошной, вызывающе несоветской. Она была из таких, о которых он сказал: «Быть женщиной – великий шаг, сводить с ума – геройство». И в истории литературы она останется не как разлучница, изводившая Пастернака требованиями оставить семью, – а как женщина, которой посвящены слова: «Сними ладонь с моей груди. Мы провода под током. Друг к другу вновь, того гляди, нас бросит ненароком».
Пастернаковский «Фауст», будучи не рабским переводом, но индивидуально окрашенной версией классического бродячего сюжета, вписывается в череду интерпретаций легенды о Фаусте и дьяволе, на которые так щедра оказалась середина века: темы трагической, беззаконной любви, тюрьмы, разлучающей любовников, и дьявольской силы, соблазняющей отшельника и поэта, – варьируются во множестве сочинений, поскольку двадцатое столетие давало к тому немало поводов. Стоит вспомнить уже упоминавшийся роман Булгакова о Мастере, Маргарите и дьяволе, – в котором, однако, акценты смещены до неузнаваемости: в заключении томится не Маргарита, а Мастер, тогда как классическая Гретхен обретает ведьминские черты; мы называли уже роман Томаса Манна «Доктор Фаустус», упомянем и роман его сына Клауса «Мефисто» – о сделке между артистом и диктатором. То, что в 1948 году Пастернаку предлагают перевести именно «Фауста», – еще один пример безошибочной работы судьбы: тема дьявольского соблазна давно вошла в его жизнь, сделки с дьяволом он избежал, о демагогических приемах Мефистофеля знал не понаслышке, – а тема трагической любви к Маргарите, гибнущей в тюрьме, вошла в его жизнь одновременно с работой над финалом первой части. Подивишься таким совпадениям – да и перестанешь считать их случайностью.
Пастернаковский «Фауст» – не столько очередная версия немецкой поэмы, сколько личное, авторское высказывание, по многим соображениям для Пастернака принципиальное. И как круг идей «Доктора Живаго» сформировался под прямым влиянием «Гамлета» – так форма романа, приемы его мифологического реализма, многие подспудные мотивы появились под действием «Фауста»; работа над этими переводами была не только горькой необходимостью, но и способом заново осознать преемственность, подтвердить собственные ориентиры, опереться на традицию. Без Гёте и Шекспира Пастернаку куда трудней было бы обрести требуемую высоту взгляда. Хвала Данте, который не дал Михаилу Лозинскому погибнуть в блокадном Ленинграде; хвала байроновскому «Дон Жуану», не давшему Татьяне Гнедич умереть в лагере; хвала и Гёте, ставившему перед Пастернаком формальные задачи такой трудности, что в стихах из романа он шутя берет любые барьеры. Во многих стихах доктора читатель узнает «фаустовскую» короткую строку; иным поздний Пастернак кажется проще, «жиже» раннего – и от импрессионизма ранних стихов тут в самом деле не осталось почти ничего; но именно поздний Пастернак по-настоящему сложен и многозначен, ибо содержание его стихов наконец ничем не замутнено.
Перелагая «Фауста» на живую и разговорную русскую речь, Пастернак – может быть, и помимо собственной воли, как часто бывает с переводчиками, – внятно высказывался о своем времени и готовился к окончательному разрыву с ним. Вот почему его Мефистофель – вечный соблазнитель художников – так часто прибегает к демагогическим приемам, слишком знакомым Пастернаку и его современникам. В многочисленных письмах – прежде всего к Марии Юдиной – содержатся жалобы на усталость именно от Мефистофеля, от его длинных, затянутых монологов, от этого липкого и вязкого многоречия, которое, по мысли Пастернака, тормозило ход действия. «Фауст» и вообще не особенно сценичен – но дело, конечно, не в провисании драматургического ритма. Пастернак жаловался на физическое отвращение, с которым он продирался через хитросплетения мефистофелевских монологов. В самом деле, приемы соблазнителей мало изменились за шестьсот лет, отделяющих «Легенду о докторе Фаусте», рожденную в тринадцатом веке, от новейшего перевода. Вот одна из наиболее принципиальных сцен трагедии – во всяком случае, для Пастернака, в своем стихийном пантеизме всегда искавшего спасения у природы. Фауст один в лесной глуши, в пещере; его пространный монолог – подлинная молитва агностика. Тут является Мефистофель со своими неизменными и, надо признать, пошлыми искушениями, – но, главное, с упреками. Гётевский Мефистофель – вовсе не банальный дух зла; его обаяние действует на самого Господа: «Из духов отрицанья ты всех мене бывал мне в тягость, плут и весельчак»; есть, стало быть, и более ужасные духи. Но Мефистофель опасен именно тем, что это – обаятельное, авантюрное, плутоватое зло, подкупающее по мелочам, подбивающее поначалу на мелкие, такие простительные злодейства! Его главный козырь – апелляция к человеческому: жадности, похотливости, трусости… Он не забывает попрекнуть Фауста своими благодеяниями: