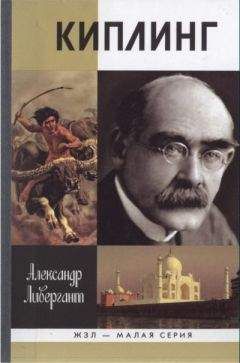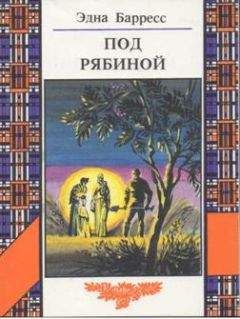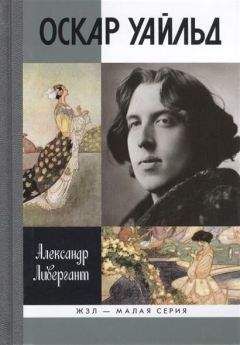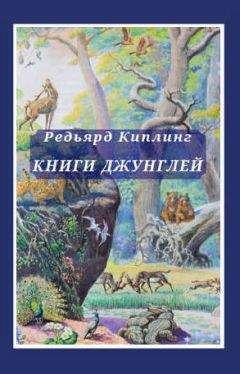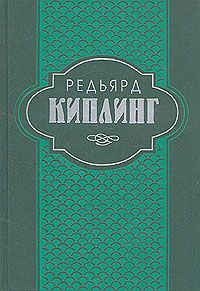Единственными двумя критиками, для кого Киплинг делал исключение, чьим мнением по-настоящему дорожил, были родители. Джон Локвуд, как правило, был первым, всегда благожелательным, но и вдумчивым его читателем — иначе он не преуспел бы как иллюстратор книг сына. Объясняя свое стремление открыть англичанам мир за пределами Англии, раздвинуть границы канонической литературы, Киплинг, о чем уже вскользь говорилось, любил ссылаться на слова Алисы: «Те, кто знает только Англию, Англии не знают»; эти материнские слова звучат рефреном и в знаменитом стихотворении Киплинга «Английский стяг».
Сам же Киплинг в начале девяностых куда лучше знал не-Англию, чем Англию, — его, создателя нового литературного пространства экзотики и героики, постоянно, с легкой руки Джеймса Барри, обвиняли в незнании жизни. Недоброжелатели считали его «англичанином без родины», Честертон (его, впрочем, недоброжелателем Киплинга не назовешь) писал о нем: «Он знает Англию точно так же, как какой-нибудь образованный английский джентльмен знает Венецию. В Англии он бывал огромное число раз, подолгу гостил в ней, но это не его дом, не его родина». Ему вторит и сам Киплинг, заметивший однажды в письме Хаггарду: «Я медленно открываю для себя Англию, самую замечательную заграницу, в которой мне довелось побывать».
Что ж, лондонскую жизнь он и в самом деле знал плохо, да и отзывался о ней — во всяком случае, поначалу — не слишком лестно. Не слишком привлекала его и возможность вращаться в писательских кругах. «Люди с чернильной лихорадкой нравились мне всегда. Они неотразимы — но лишь до тех пор, пока их лихорадит. Происходит это, увы, крайне редко!» К издателям Киплинг относится сносно, считает их «большей частью хорошими ребятами», не верит — тем более что его собственный опыт этому противоречит — историям о том, как издатели губят молодые таланты, а вот журналистов считает «опасными». Они, уверен Киплинг, могут быть вполне приемлемыми и даже достойными членами общества, но «оказываются совершенно беспринципными, стоит только им взяться за перо». Когда Киплингу напоминали, что он и сам журналист, он, пародируя самого себя, отвечал: «Ну, это совсем другая история…»
Одиночество, ностальгия, плавание против литературного течения (эстетизм конца века входил в моду и плохо сочетался с грубыми солдатскими стихами и рассказами Киплинга; представим себе, как бы Бальмонт и Северянин реагировали на Маяковского), несмотря на несомненный и всё увеличивающийся успех, портили настроение, вызывали разлитие желчи. Недовольство жизнью, о котором свидетельствует и приехавшая в Лондон вместе с мужем Трикс (ныне миссис Флеминг), нашедшая любимого брата знаменитым, материально обеспеченным и при этом дурно настроенным, проявлялось решительно во всем. Хотя бы в том, как часто Киплинг в первые два года своего пребывания в Англии употребляет в дневниках, записных книжках, письмах слово «гнусный» (vile). Гнусны и Лондон, и обед в трактире в Олбани, куда он отправился вместе с редактором «Субботнего обозрения» Поллоком («Серые комнаты, гнусный обед, гнетущее молчание, Поллок дремлет, грязные вилки»). И светское общество в составе леди Уэнтворт, лорда Пемброка и лорда Гроснора, которые, «загнав меня в угол, расточали мне комплименты, я же про себя думал: „Не будь я модным автором, вы бы меня и на порог не пустили“». И даже «длинноволосые литераторы из „Сэвила“, которые клянутся, что разговоры моих „Трех солдат“ выдуманы от начала и до конца». «Из пяти миллионов лондонцев, — с горечью писал в это время Эдмонии Хилл Киплинг, — за исключением умирающих от голода, нет, пожалуй, ни единого человека, кто был бы более несчастен, жалок и никудышен, чем набирающий обороты юный сочинитель по имени Радди».
Постоянные жалобы на жизнь (уж не поза ли?) не помешали, однако, «набирающему обороты юному сочинителю по имени Радди» в 1890 году написать большую часть «Казарменных баллад» и полдюжины рассказов. А также в рекордные сроки, за неделю, существенно переработать уже написанный роман и выпустить его сначала в Америке, где его популярность росла еще быстрее, чем в Англии, а потом и в Лондоне. Американская, более короткая версия романа со счастливым концом появляется в американском издательстве Джеймса Ловелла 27 ноября 1890 года, в январе 1891-го она же перепечатывается в англо-американском ежемесячном журнале «Липпинтокс мансли мэгэзин», издатель которого, Липпинток, открыл читателям такие произведения мировой классики, как «Знак четырех» Конан Дойла и «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда. А спустя всего два месяца в издательстве Макмиллана, в Лондоне, выходит первая, изначально задуманная — каноническая — редакция романа уже не со счастливым, а с трагическим концом.
«Свет погас» — не первый, как мы помним, роман Киплинга, была ведь и не законченная и так и не увидевшая свет «Матушка Матьюрин». Не первый и, прямо скажем, не слишком удачный. Часто бывает, что писатель, подобно матери, которая нередко больше любит детей нездоровых и неблагополучных, упрямо превозносит свои откровенно слабые вещи. Киплинг, однако, оценил «Свет погас» вполне трезво, счел, что ему не удалось «выстроить повествование» (действительно не удалось) и что книга напоминает «искаженную версию „Манон Леско“» (если и напоминает, то очень отдаленно). Писатель и сам чувствовал, что большие формы ему не даются: «Для меня всегда будет тайной, каким образом любой нормальный человек может, если он пишет длинный роман, разделить его на начало, середину и конец. Разница между романом и рассказом ничуть не меньше, чем между океанским лайнером с полутора тысячами пассажиров на борту… и утлой лодчонкой…» Однако неудача книги объясняется не неспособностью Киплинга пересесть из «утлой лодчонки» короткого рассказа в «океанский лайнер» романа, а совсем другим — банальностью замысла и обремененностью романа автобиографическими мотивами.
Мало того что герой книги, художник-баталист Дик Хелдар, — личность столь же незаурядная, сколь и надуманная; гибель в финале этого неподвластного обывательской морали, способного превозмочь любые невзгоды творца является, по модели ницшеанского сверхчеловека, торжеством воли героя-одиночки; говоря словами Киплинга: «И только Воля говорит: „Иди!“» Мало того что герой списан с автора, является его идеальным alter ego — рассуждая о жизни, политике, любви или искусстве, он говорит исключительно авторским голосом. Ко всему прочему, Хелдар, за вычетом того, что он художник, а не писатель, «заимствует» у Киплинга не только его взгляды, но и его биографию.
Воспитательница в приюте миссис Дженнетт, которая допекает юного героя, внушает ему отвращение, предается «усердному чтению Библии»[10] и должна, по мысли опекунов, «заменить сиротке родную мать», похожа как две капли воды на ненавистную тетушку Розу из Лорн-Лоджа. Сходным образом, Мейзи, юная и малоодаренная художница, в которую влюблен Хелдар, совмещает в себе черты возлюбленной Киплинга Фло Гаррард и сестры Трикс. Что же касается собственно автобиографических мотивов, то в романе они встречаются буквально на каждом шагу. От сурового обращения воспитательницы, которое взращивает в герое волю, дает силы переносить одиночество, до неожиданной встречи с Мейзи в Лондоне, так напоминающей нечаянную встречу Киплинга с Фло спустя годы после расторжения помолвки. От слепоты героя, которая заставляет нас вспомнить о временной потере зрения маленьким Радди в Саутси и является довольно ходульным символом заката творческого дара художника — безразлично, живописца или литератора, — до ура-патриотических текстов военных борзописцев: «Кровопролитная битва, в которой наше оружие стяжало себе бессмертную славу». От завоевания Хелдаром Лондона (во фразе «Ты стал модным, все без ума от твоих рисунков» «рисунки» легко подменяются «балладами» и «рассказами») до сосисок с картофельным пюре, которыми герою романа, как и Киплингу, приходилось перебиваться на первых порах. Устами Хелдара Киплинг дает отповедь «эстетствующим» критикам, сочиняет нечто вроде своего, довольно, в сущности, примитивного эстетического кредо. Изображать, учит Хелдар, следует то, что автору знакомо, и пусть «невежественные юнцы, кастраты, которые сроду не бывали в Алжире, скажут, что, во-первых, это плохое подражание Природе, а во-вторых, оно не имеет ничего общего с Искусством». Картина жизни не должна быть «лакированной, как мебель». Надо бороться с искушением деньгами, не разменивать себя по мелочам. В Искусстве, утверждает Хелдар-Киплинг, главное — жизнь, необходимо жертвовать собой, не щадить себя, не испытывать удовлетворенности от своей работы. Следует выйти из мастерской, этой бесплодной пустыни, где «нет ничего, кроме холстов и скучных наставлений», и где Мейзи рисует нескончаемые женские головки, чтобы от произведения искусства «исходил запах табака и крови»…