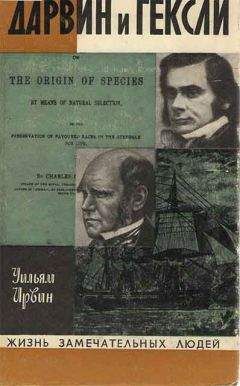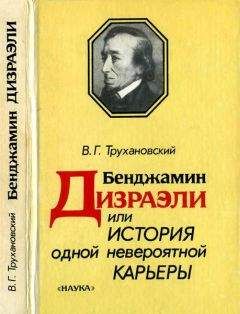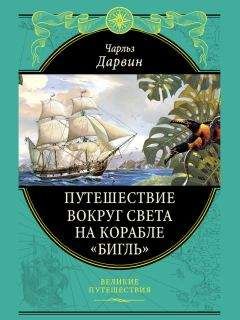6
МОЛЛЮСКИ И БОГОХУЛЬСТВО
Почти сразу же после возвращения в Англию Чарлз стал готовить свой «Дневник» к печати. Пересмотрев разнообразные наблюдения, сделанные им во многих областях науки, он сильнее прежнего уверовал в преимущества гипотезы о превращении видов. Правда, ей противостояло великое множество седовласых авторитетов. И хоть работу над «Дневником» он закончил только в 1837 году, когда уже достаточно далеко продвинулся в своих раздумьях об эволюции, показательно, что здесь он о них не обмолвился ни словом, а лишь убрал наиболее откровенные свидетельства былой своей приверженности креационизму[50].
«Дневник» вышел в свет в 1839 году как приложение к двухтомным «Запискам» Фицроя. «Я — автор книги, — писал Дарвин Генсло. — Доживу до восьмидесяти лет, и все не перестану дивиться такому чуду». Еще больше он дивился тому, что книга имела несомненный успех. Спрос на нее не прекращался, и в 1845 году потребовалось второе издание. Благодаря своим обширным и красочным наблюдениям из жизни растений и животных, блестящему анализу геологии Южно-Американского континента и исчерпывающему изложению сформулированной Дарвином теории происхождения коралловых островов «Дневник» стал достойным преемником «Путевого дневника» Гумбольдта и, в свою очередь, вдохновлял потом других ученых-исследователей.
Несмотря на постоянные болезни, Дарвин в 1842 году подготовил к печати свои «Коралловые рифы», а в 1844-м — «Геологические наблюдения на вулканических островах». Обе работы были приняты восторженно, а дарвиновское толкование проблемы коралловых рифов считают самым верным и по сей день. Перечитав «Рифы» вновь через семь лет, Дарвин с подкупающей непосредственностью воскликнул:
— Поражаюсь собственной точности!
Все это время он много писал и для научных журналов. В 1846 году он опубликовал свои «Геологические наблюдения в Южной Америке, или третью часть изысканий по геологии, сделанных во время плавания на „Бигле“», и приступил к фундаментальному труду об усоногих рачках. На чилийском побережье ему попалась своеобразная их группа, которую пришлось выделить в особый подотряд. Вначале он не подозревал, что потратит на изучение усоногих восемь лет; но нового рачка нельзя было понять, не изучив досконально уже известных, а Дарвин с грустью убедился, что усоногих рачков до сих пор понимали очень превратно.
Может показаться, что при хроническом несварении желудка нетрудно найти себе более приятное дело, чем сидеть и терпеливо расчленять тысячи, мелких зловонных обитателей моря; а между тем с течением лет занятие это сделалось в семье Дарвина чем-то до такой степени привычным и неизбежным, что один из малышей, рожденный на свет, когда работа была в самом разгаре, спросил об одном из их соседей:
— А где он режет с рачков?
Новые познания уводили в дебри классификации, к бесплодным сложностям терминологии. Письма Дарвина дышат благородным негодованием, когда он корит за тщеславие ученых (в том числе и себя в молодые годы), которые называют какой-либо вид своим именем на том лишь основании, что сами его открыли.
Были у него и свои радости. «Просто наблюдать» уже доставляло наслаждение. Он пишет Фицрою, что «последние две недели изо дня в день напряженно работал, анатомируя существо родом с архипелага Чонос и размером с булавочную головку, и готов провести таким образом еще месяц, чтобы каждый день лицезреть все новые красоты строения». Были и странные факты, способные доставить радость человеку с пристрастием к странным фактам.
«На днях мне попался любопытный образчик, не гермафродит, а однополый: у самки — обычные для усоногих раков признаки, а в обеих створках ее раковины — два карманчика, и в каждом содержится по крохотному супругу; первый раз вижу такое, чтобы у особи женского пола непременно имелись два мужа».
Это был не просто любопытный факт. В другом письме Дарвин с понятным волнением человека, сделавшего открытие, объясняет:
«Мне никогда не постигнуть бы этого, если бы моя теория происхождения видов не убедила меня, что гермафродитный вид чередой едва заметных изменений должен переходить в вид двуполый, а тут как раз такой случай, ибо у гермафродитов мужские органы начинают отмирать и потому возникают готовенькие самцы».
Только стоят ли факты, пусть даже столь необычные, восьми лет жизни? «Не сомневаюсь, — с оттенком грусти пишет Дарвин, — что сэр Э. Булвер-Литтон[51]имел в виду не кого-нибудь, а меня, когда вывел в одном своем романе профессора Лонга, написавшего два толстенных тома о моллюсках-„блюдечках“». С годами он, пожалуй, стал понимать насмешника Литтона, но в то время, очевидно, считал, что рачки того стоят. Гексли, с присущим ему восторженным отношением к подвигам научного усердия, был согласен, что стоят.
«Дальновидный отец Ваш, — писал он спустя много лет Френсису Дарвину, — поступил как нельзя более мудро, когда обрек себя на годы терпеливого труда, какого стоила ему книга об усоногих раках…
Мне всегда представлялось замечательным проявлением его научной прозорливости и его мужества то, что он увидел, как необходимо приобрести такую выучку, и не побоялся положить на это столько труда».
Сэр Джозеф Гукер ему вторит: «В своей деятельности биолога Ваш отец различает три ступени: просто собиратель в Кембридже; собиратель и наблюдатель — на „Бигле“, зрелый естествоиспытатель — после и только после работы об усоногих раках».
Непрерывной чередой сменяли друг друга под микроскопом рачки, а сам наблюдатель тем временем сутулился и лысел, на его лице пролегли глубокие морщины. Родились еще три дочки — Мэри, Генриетта, Элизабет, — и еще два сына — Джордж и Френсис.
А там стало сдавать здоровье у старого доктора Дарвина. Непререкаемый медик и всегда-то отличался дородством, а в последние годы сделался до того тучен, что, потянув однажды на весах 336 фунтов, решил больше не взвешиваться никогда. Прошло еще несколько лет, и он без посторонней помощи уже с трудом поворачивался в постели с боку на бок. Облаченный в старомодные бриджи, в сюртук с широкими лацканами, он большей частью сидел в саду в своем кресле на колесах, печально глядя на кусты и фруктовые деревья, в которых, бывало, находил столько утехи. Кончилось время прочувствованных двухчасовых наставлений с разбором того, что произошло за день, отчасти потому, что теперь ничего не происходило. Он и не хотел, чтобы происходило. Все больше он ограждал себя от переживаний и воспоминаний, которые стали для него непосильны. Его память и его чувства не утратили своей остроты и держали его точно зубья капкана. Он не мог забыть ни одной даты и каждый год вновь переживал смерть каждого из своих старых друзей. Чарлз предложил было, чтобы он хотя бы выезжал ради моциона, раз не может ходить пешком.