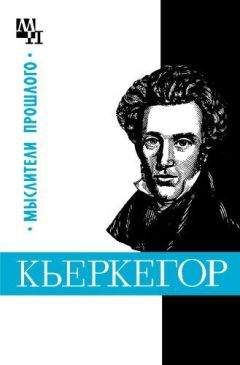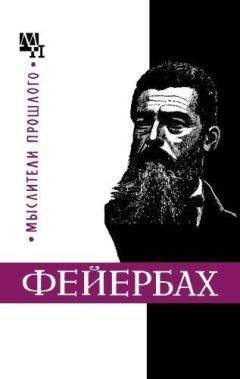Вера для Кьеркегора — чисто субъективное, идущее изнутри эмоционально-волевое отношение к „истине“. „Вера — это высшая страсть субъективности“ (6, 16, I, 121). Верующий человек — это не мыслящий человек. Картезианское cogito ergo sum (я мыслю, следовательно, я существую) оттесняется credo ergo sum (я верю, следовательно, я существую). В таком понимании истинность тождественна верованию. И это понимание вопреки уверению Кьеркегора радикально отличается от сократовского. По его убеждению, объективное постижение бога лишь свидетельствовало бы о неверии в него, ибо верить в бога следует именно потому, что познать его невозможно. Вера, крайняя субъективность, становится „абсолютной объективностью“. И тем не менее Кьеркегор своими действиями опровергает свои собственные взгляды: тем, как он доказывает, он опровергает то, что он доказывает. Его метод — наглядная иллюстрация самоопровержения иррационализма. „Здесь, по-видимому, имеет место коренное и даже фатальное несоответствие между (1) доводом Кьеркегора, что, поскольку вера выше разума, она не допускает и не требует рационального обоснования, и (2) тем фактом, что два его главных философских произведения, особенно „Заключительное ненаучное послесловие“, представляют собой рациональное обоснование веры“ (47, 93).
Основная категория, образующая ядро всей философии Кьеркегора,— „вера“. Основной вопрос философии приобретает у него форму вопроса о соотношении „истины веры“ и объективной истины знания. Субъективноидеалистическая концепция „истины“ позволяет ему не только распространить на субъективно-мотивированную религиозную веру понятие „истины“, но и растворить „истину“ в „вере“, той оси, вокруг которой вращается все его мировоззрение. „Ясно, — читаем мы запись в „Дневнике“, — что я дал в своих произведениях более широкое определение веры, которого до сих пор не было“ (7, 488). Да и некоторые современные буржуазные философы полагают, „что философская новизна Кьеркегора состоит в его понятии веры“ (68, 286). Причем исходным пунктом определения этого понятия служит для него противопоставление веры знанию, подход к вере как к анти-знанию. Можно поэтому сказать, что гносеология, или эпистемология, теория познания, перерождается у Кьеркегора в фидеологию, или пистеологию (от греч. pistis—вера), в теорию верования.
По словам Кьеркегора, „вера, специфически определенная, отлична от всякого иного освоения и имманентности (Innerlichkeit)“, причем страсть, характеризующая веру, и рефлексия, характеризующая знание, в том числе и самопознание, „взаимоисключают друг друга“ (6, 16, II, 325). Вера есть акт воли, свободного выбора, страстного влечения.
Воля к вере имеет для Кьеркегора решающее значение, обусловливая решение при свободном выборе. „Вера не умозаключение (Schluß), а решение (Entschluß), исключающее всякие сомнения“ (6, 10, 81). А всякое решение коренится в субъекте, зависит всецело от него самого. Впрочем, для Кьеркегора решение субъекта, стоящего перед таким выбором, предрешено, он не может не выбрать веру. Он должен избрать, не может не избрать „выбор, истина которого: здесь и речи быть не может о выборе“ (7, 447).
Такое решение есть „качественный скачок“, „мгновение“, переход в иное душевное состояние, отличительная черта которого преданность. „...Hic Rhodus hic salta“,— восклицает Кьеркегор (7, 248). В это мгновение „человек становится новым сосудом и новым творением“.
Решение требует решимости. Оно связано с риском. „Без риска нет веры, чем больше риск, тем больше веры“ (6, 16, I, 201). Как не вспомнить, читая все эти страстные, вдохновенные фидеистические излияния Кьеркегора, слова Герцена о самовыражении чувств и стремлений, поглощающих личность: там, где нет понимания, „может быть искренность, но не может быть истины“ (19, 5). Датский богоискатель мог бы сказать: „Тьмы низких истин мне дороже нас возвышающий обман“ — фанатический религиозный самообман.
Однако в субъективистском фидеизме Кьеркегора есть глубокая трещина, через которую „рыцарь субъективности“ тщетно старается проложить мост. Это трещина между свободным волевым самоопределением верующего и божественным откровением. Но конечно, для верующего нет ничего невероятного. Ему доступно недоступное, для него досягаемо недосягаемое. „Сама вера есть чудо...“ (6, 10, 62).
Здесь обнаруживается еще одно коренное отличие кьеркегорианства от сократизма, отмеченное самим Кьеркегором. Истина веры приобретается прямо „из рук бога“, и подлинным учителем и наставником человека является не кто иной, как сам бог (6, 10, 13). Божественное откровение, стало быть, а не субъективное побуждение само по себе — первоисточник веры. „...По христианскому пониманию, истина лежит все же не в субъекте, а является откровением, которое должно быть возвещено“ (7, 325). За имманентностью веры кроется, таким образом, трансцендентный генезис истины... Фидеизм не безбрежен, он омывает догматические берега.
При всем своем отчуждении от разума фидеистический идеализм — не просто глупость. Он улавливает и абсолютизирует, гиперболизирует психологию религиозной веры, религиозного самочувствия и дает его проникновенное описание, своего рода феноменологию религиозной интенциональности, размежевывая и контрастируя веру и разум, таинство и познание. Но описание, сколь наглядным и выразительным оно ни было бы, отнюдь не есть понимание, объяснение описываемого явления. Понимание психологического процесса, порождающего и закрепляющего религиозное чувство, недоступно Кьеркегору, а его объяснение фальшиво и ложно. Социальные и социально-психологические детерминанты религиозной веры для Кьеркегора — terra incognita.
Если „вера“ — центральная категория фидеологии Кьеркегора, то „парадокс“ — категориальный ключ к его пониманию „веры“. „Отличительный признак христианства — это парадокс, абсолютный парадокс“ (6, 16, II, 250), и Кьеркегор с большим рвением старается убедить в необходимости парадокса. В конце концов „истина есть парадокс“—высшая истина. „Высшее, к чему может стремиться человеческая мысль, — это выйти за свои собственные пределы, придя к парадоксу“ (6, 16, I, 97). Будучи объективной недостоверностью, парадокс вместе с тем объективно является истиной (6, 16, I, 196), ибо „об абсолютном парадоксе можно понять только то, что его нельзя понять“ (6, 16, I, 209): если бы парадокс стал понятным, он перестал бы быть парадоксом. И наиболее парадоксальным для мышления является его парадоксальное отношение к парадоксу: оно ничего так не хочет, как осмыслить то, что невозможно мыслить. Немыслимое, парадокс, для мышления — неутолимая страсть, и, как всякая страсть, она есть страдание мысли. „Когда парадокс и рассудок сталкиваются во взаимопонимании своего различия, их взаимообщение счастливо, подобно пониманию в любви, во влечений, которому мы еще не дали названия и дадим его лишь впоследствии“ (6, 10, 46).