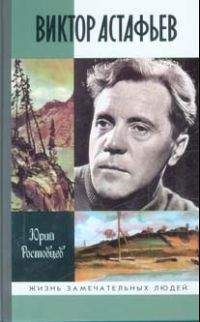Больно. Конечно, больно. Иголкой ткнут — и то больно, а тут рубануло так, что и кисть руки назад передом обернулась. Однако реву-то я не только от боли, но и от непонятной обиды, растерянности и усталости — недовоевал вот, а так хотелось до этого самого „логова“ добраться, от ребят отрываюсь — от семьи, сказать. Как быть без них и жить? Не знаю, не ведаю, разучился жить один. Инвалидом, наверное, стану. Кому же охота быть инвалидом? Со Славкой расставаться жалко. И вообще все как-то не так, несправедливо, неладно…
Повар кашу горячую в котелке сует. „Пошел ты со своей кашей!“ — взревел я…»
Но это — когда все уже самое страшное позади. Однако в память на всю жизнь врезались детали боя — одного эпизода из той войны, какая она есть на самом деле:
«…Сзади горели нефтеносные промыслы в районе польского города Кросно. Наши части углубились в горы по направлению к Словакии. Немцы пускать нас вперед, естественно, не хотели. Шли упорные бои. Было сухо, душно и очень напряженно. Войска, втянувшиеся в расщелину гор, находились в полуокружении.
В тот день мы окапывались на склоне горы, обочь которой бежал ручеек, а на оподоле рассыпались дома деревушки. Нас все время обстреливали. Я был связистом, копал тяжело, и я это дело не любил, но все же копал, помня заповедь: чем глубже в землю, тем дольше жизнь. Вот и рубил я кайлом каменистый склон, подчищал лопаткой щель, на бруствере которой стояли два телефона.
Ударил разрыв, я спрятался в щель, подождал, пока осколки пролетели надо мной, и, вставши, потянулся к трубке телефона, чтобы проверить связь. И в это время зафурчал рябчиком надо мной осколок на излете да как саданет под правую лопатку, ну ровно молотком. Боль оглушительная, тупая, такой при ранении не бывает. При ранении сквозняком вроде бы прошьет все тело, в голове зазвенит, и сразу горячо и тошновато сделается — потекла кровушка.
В тот раз лишь просекло гимнастерку, оцарапало кожу, под лопаткой картофелиной набух синяк. Копать не могу, руку едва поднимаю, а тут еще жрать не несут, и печет, печет солнце, что тебе в июле!
За полдень все же приволокли термос размазни-горошницы с белыми нитками тушенки, которая, по замыслу повара, супом должна была зваться. Только мы есть расположились — бомбежка! Какой-то приблудный солдат, вовсе не из нашего подразделения, бултых в яму, которую копали наши бойцы под блиндаж и где устроились поесть, да сапожищем-то прямо в термос!
Солдата прокляли, высадили пинкарем из ямы, облизали ложки — и давай дальше землю копать.
Контратака! Час от часу не легче! Согнали пехоту с высоты. В окопы, нами вырытые, народу всякого набилось, шарят всюду, того и гляди чего-нибудь сопрут, а главное — такое скопище непременно бомбить и обстреливать станут. Солдаты в деревне картошек нарыли, огонь норовят возле ручья развести.
Опять контратака! Стрельба поднялась, крики. Наши орудия лупят почти на пределе, своими же осколками может посечь.
Отбили и эту контратаку. Я по телефону орал, аж охрип. Славка — ему до всего дело — вместе с пехотой отгонял противника, в поту весь, грязный явился, я ему попить из фляги дал. „Всех, — спрашиваю, — фрицев сокрушил?“ — „Фрицев? Кабы фрицев! Власовцы, заразы, атаковали! Один раненый зажался в овражке: ‘Не стреляйте, я советский…’“ — „Ну, и?..“ — „Чего, ну? Понятно? Я б его сам, подлюгу!..“
Хорохорюсь, хотя представить в общем-то не могу: как это „я б сам“? — ведь русский же, советский, наш бывший… И атакует, сволота! Да еще как атакует! Осатанело. Народу сколько за один день перебило!
Смута на душе. Жрать хочется, спина болит, плечо и рука онемели. А тут снова здорово: „фокке-вульфы“ прилетели, по две бомбы фуганули и давай из пулеметов нас поливать. Но уж и нашим тоже надоело — палят из всех ячеек и щелей кто во что горазд. Неподалеку, слышу, даже из пистолета кто-то щелкает. И я со зла карабин свой сгреб, хотя и знал, что „фокке-вульф“ из такого оружия сбить — все равно что пытаться в озере Байкал одну-единственную, будь она там, кильку выудить. Палю с левого плеча, в раж вошел. Глядь: „фокке-вульфы“ ходу дают. Мне блазнится, что это я их отпугнул. „А-а-а, стервы! А-а-а, коршунье! Получили! Я-a вот вам!..“
В это время как шандарахнуло! Ложе карабина в щепки, телефон вдребезги, и сам я — не то на том свете, не то на этом лежу, дым нюхаю. Земля на меня сыплется, заживо засыпает. Страшно сделалось. Как выскочил из полуразвороченной щели и к ребятам рванул — не помню.
„Свалился, — рассказывает уже в Ленинграде Слава, — все в тот же недокопанный блиндаж. Глядим: рука навыверт, кровина хлещет ручьями. Пробуем перевязать — бьешься, кричишь: ‘Самолет! Где самолет! Я же его!..’“ А того не соображаю, что другие самолеты прилетели, может, и снаряд ударил, — немцы начали артподготовку перед последней в тот день атакой.
Мы со Славой бежали под гору, к деревне. Голова кружилась. Я пить просил. Друг пить не давал — опытный он уже был, десантную школу кончил. Его за Днепр на плацдарм с десантом выбрасывали, да неудачно. Весь тогда почти десант погиб. Слава в наше расположение ночью выполз с другом одним со странным и запоминающимся именем — Январист.
С перепугу наш часовой чуть было их не уложил. „Мне, — говорит Слава, оставшись в нашей артиллерийской части, — после того десанта ничего уже не страшно, теперь меня не ранят и не убьют“.
Так оно и вышло!
А меня вот ранило, дурака! И зачем мне этот самолет сдался? Зачем я только рыло свое грязное из ячейки высовывал?!
Какие-то две девушки военные третью девушку, раненую, волокли. У нее, у бедной, голова моталась, ноги подгибались. Пить просила.
„Вот она, вода-то!“ — показал Слава на ручеек. Девки пищат: „Как же пить такую воду!“ Ручей и правда точно с бойни течет, бурый от крови и мути. „Зажмурьтесь!“ — гаркнул Славка и потартал меня дальше.
Со всех сторон в деревню раненые текли, поодиночке и группами. Смотрим, минометчики из нашей дивизии, человек восемь. Среди них лейтенант, повис на забинтованных солдатах, зубами от боли скоргочет.
„Привет!“ — „Привет!“ — „Отвоевались?“ — „Отвоевались! Так-перетак в Гитлера, в Геббельса, в маму ихнюю и в деток, если они у них есть!..“
Завыло, запело вдали густо, пронзительно. Остановились, замерли все, и вдруг посыпались кто куда. Накрыло нас минометным налетом. Слава успел столкнуть меня в придорожную щель, сам сверху на меня обрушился. Я упал на раненую руку, потемнело в глазах.
Сколько времени прошло — не знаю. Помню как во сне: сумрачно, дымно, пыль оседает, и на развороченном булыжнике дороги, вперемешку с серым лоскутьем — землей и корнями — серые скомканные трупы минометчиков. Меж ними побитые девчонки валяются. Одна кричала истошно, предсмертно, до самого неба. Лейтенант, сделавшийся вдруг коротеньким, упираясь лбом в землю, молча приподнимал себя и нашаривал что-то руками, искал чего-то.