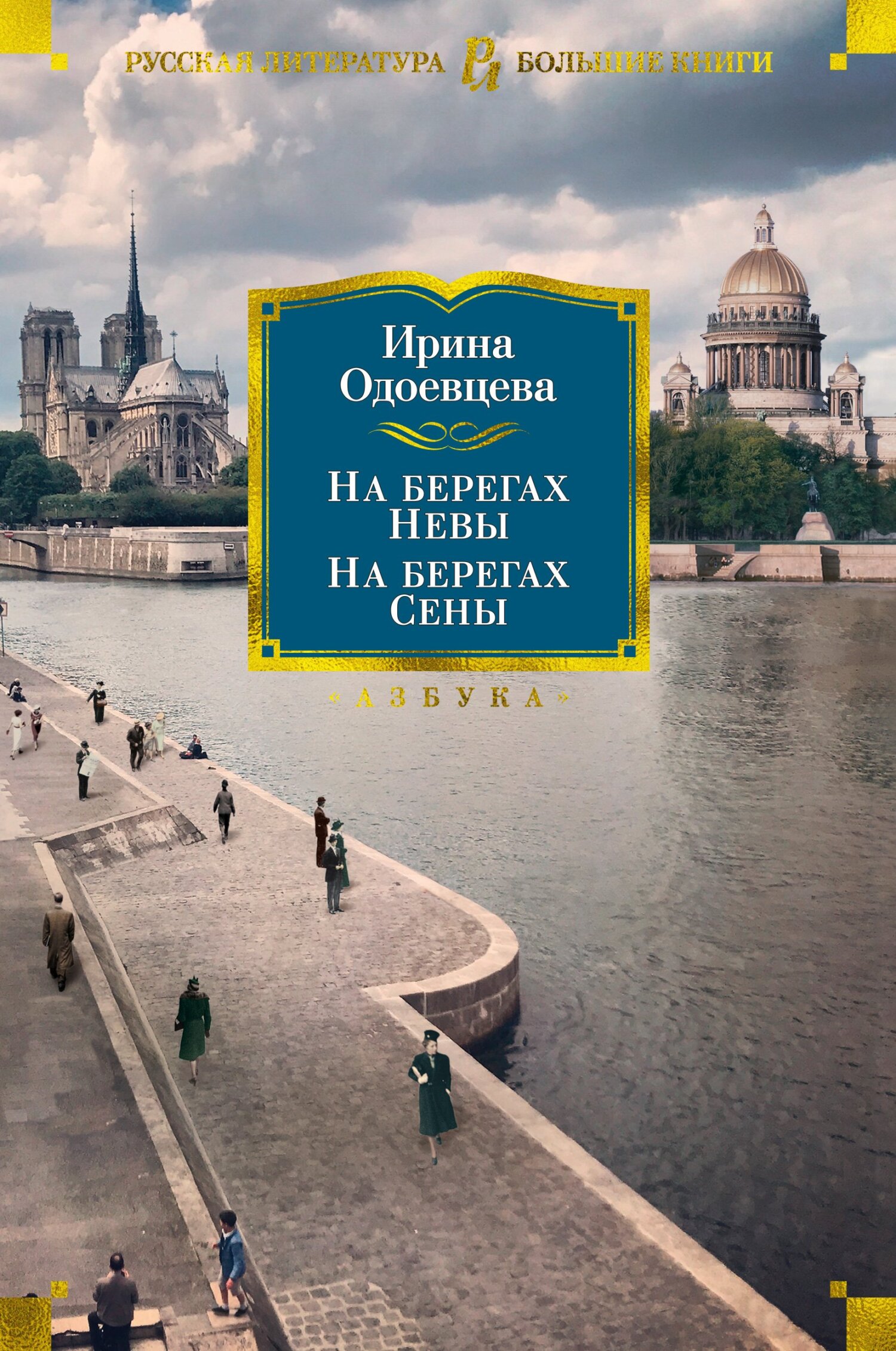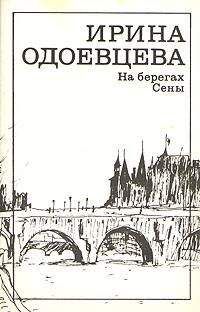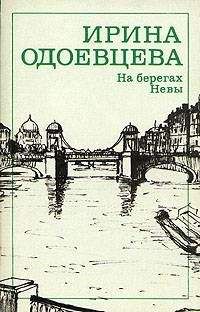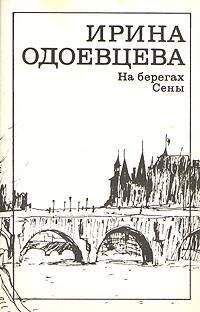состоялся уже его пятидесятилетний юбилей. И я с огорчением вспоминала отсутствующих…
Но и в Ганьи нам жилось хорошо и даже празднично. Превращению будней в праздники помогали мне и Терапиано, и Вера Васильевна. Я стала устраивать «междусобойчики», как их по-одесски называла Софочка Прегель. В моей крошечной комнате за столом сидело по 18 человек, и никто не жаловался на тесноту. Адамович, читавший тогда лекции в Манчестере, вернувшись на каникулы в Париж, пришел на один из «междусобойчиков» и только руками развел:
– А я и не знал, мадам, что вы умеете укладывать слона в спичечную коробку!
И с тех пор в свои приезды в Париж он неизменно бывал на наших сборищах.
Вскоре меня перевели в другую, большую комнату, и состав «междусобойчиков» расширился и изменился. Теперь на них стали бывать Е. Ф. и Г. А. Рубисовы, Н. Н. Евсеев, И. И. Махотин, Ренэ Герра, его невеста, русская молодая девушка Екатерина Зербино, и другие.
С Ренэ Герра, молодым литературоведом, я познакомилась в 1967 году, на Пасху, у Бориса Константиновича Зайцева, которого мы с Адамовичем пришли поздравить. Он привез мне фотографию с моего силуэта работы Кругликовой, и я пригласила его в Ганьи. Через несколько дней он действительно приехал и привез мне букет красных роз. Тут он познакомился с Терапиано, и они очаровались друг другом. Так началась их большая дружба. Терапиано наговорил для него целый том воспоминаний об эмигрантских писателях, о «Зеленой лампе», о Мережковском, Зинаиде Гиппиус и «молодых» поэтах. Герра постоянно ездил к нам. За ним часто приезжала его невеста, а когда он женился, Зайцев был его посаженым отцом, а свидетелем – Юрий Константинович. Венчание их происходило в соборе Александра Невского, пышно и торжественно, а после венчания был прием в Морском собрании.
После женитьбы Герра вместе с женой поселился в Медоне. У него на квартире стали устраиваться «Медонские вечера». На них присутствовали, кроме гостей, в основном писатели и художники. Все доклады и обсуждения записывались на пленку, и сегодня это интереснейший материал к истории эмигрантской литературы. К сожалению, «вечера» продолжались только три года.
Юрий Константинович был их бессменным председателем и душою. Однажды, когда он был болен и я его заменяла, я предложила начать медонскую «Чукоккалу» – альбом, в котором записывали бы свои стихи и рисовали наброски все члены кружка и его гости. Теперь этих альбомов, успешно продолженных с того вечера, насчитывается больше двадцати четырех. И хотя нет уже «Медонских вечеров», художники и поэты, посещающие Герра, продолжают эту традицию.
Весна 1976 года. Теплая ранняя весна. На деревьях уже зеленеют первые трогательные листочки, и на клумбах робко расцветают нарциссы.
Мы, то есть Юрий Константинович, я и Вера Васильевна Савицкая – наш общий с ним большой друг, живущая с нами в одном доме, – сидим в саду.
С Верой Васильевной он дружит в «общечеловеческом» и в «метафизическом» плане. Она – последовательница учения йогов, бывала в Индии. Он, большой эрудит по всем оккультным вопросам, если не уезжает в Париж, раскладывает замысловатые пасьянсы. Это занятие я не одобряю и не принимаю участия в нем, считая потерей времени.
– А мне, – уверяет он, – пасьянсы совершенно необходимы. Они проветривают мои мозги, дают мне блаженное ничегонедумание. Я, раскладывая их, просто выключаюсь из жизни. Благодаря им работать легче. Непременно попробуйте, – советует он мне.
Но этому мудрому его совету я так и не последовала.
Весной он всегда чувствует особенный прилив сил и жизнерадостности и сейчас, улыбаясь, цитирует строки Георгия Иванова:
И вновь мы за счастье готовы платить Какою угодно ценою.
– Нет, вам, Юрий Константинович, платить за счастье не придется, – говорю я. – Вы и так счастливый человек. Ведь счастлив тот, кто вправе – с полным основанием, без всякого эгоцентричного попустительства – быть довольным собой. А вы вправе не только быть довольным, но даже гордиться собой. Остальное уже не так важно. Хотя и даже «остальное» очень недурно. Вы совершенно здоровы, окружены любовью и почтением, живется вам приятно, и вы еще не собираетесь кончать свою ураганную деятельность. А обыкновенно старый писатель даже в своей стране…
Но он удивленно и обиженно прерывает меня:
– Старый? Почему вы называете меня старым?
Я не могу не рассмеяться:
– Да просто потому, что вам восемьдесят четыре года. Вспомните, что Толстого во время его восьмидесятилетнего юбилея называли «Всероссийским старцем».
Он тоже смеется:
– А вы правы! Я – старый, я – старец, Мафусаил. Но вот никак не чувствую этого. Мне все кажется, что у меня впереди годы и годы. Никакого груза времени не ощущаю, как будто я еще молод.
– Ощущение вечной молодости – еще лишнее доказательство, что вы счастливый человек, – настаиваю я.
Но он протестует:
– Нет, нет и нет. Вы ошибаетесь. Вот вам кажется, что моя литературная карьера удалась. А она вовсе не удалась. И даже напротив, как писал Достоевский. Ведь я прежде всего поэт. Но кто об этом помнит, кто читает мои стихи? Кто?..
Тень огорчения проходит по его улыбающемуся лицу.
Да, правда, поэтическая карьера его не удалась, хотя она и начиналась блестяще. Он занимал одно из видных мест в ряду тогдашних «молодых» поэтов – Довида Кнута, Смоленского, Поплавского, Мамченко, Ладинского, Гингера, Присмановой. Он был первым председателем «Союза молодых поэтов», основанного им самим в 20-е годы. Его второй сборник стихов «Бессонница» распродался целиком, чего ни с одним сборником стихов, кроме «Роз» Георгия Иванова, за рубежом не случалось. Но, став присяжным критиком, он как будто перестал для читателей быть поэтом. Для них, по-видимому, поэзия несовместима с критикой. Или поэт, или критик. А что он критик «Божьей милостью», ни в ком сразу же сомнений не вызывало. Отсутствие интереса к его стихам, непризнание их читателями очень огорчало его. Ведь он сам сознавал, что его стихи становятся с годами все лучше и делаются более глубокими.
Юрий Терапиано – действительно большой поэт. Стихи его – одни из тех,