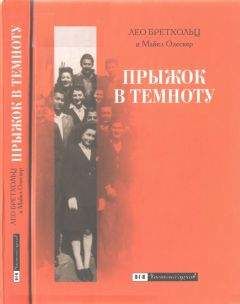Потом я вернулся в свою комнату и написал письмо родным. Я писал, что Антверпен напоминает мне Иерусалим — такое большое впечатление произвели на меня вывески на идише и то, что у меня была здесь своя комната. Пусть небольшая, она служила мне убежищем. На некоторое время я мог прекратить свой бег.
Растянувшись на кровати, я представлял себе радость своих близких, когда они услышат о великом счастье — я все-таки добрался сюда. Но мне хотелось, чтобы они тоже были здесь со мной, и эта мысль мучила меня. Я взял еще один листок бумаги и сделал то единственное полезное, что мог совершить в настоящий момент: послал Хайнцу письмо с просьбой переслать мне мой чемодан.
В этот же день после обеда мы с дядей Давидом поехали на трамвае к нашим дальним родственникам, жившим в Берхеме — пригороде Антверпена, с детскими площадками, парками и открытыми полями. Глава семьи Нахум Розенблюм, кузен моей бабушки по маме, владел магазином деликатесов, расположенным в одном из районов Антверпена, где еврейское население постоянно росло. Многие евреи селились здесь после изгнания их с родины. У Нахума и его жены были дочь и сын, жившие с ними, и еще одна дочь Рашель, которая жила в Берхеме со своей собственной семьей. Рашель Фрайермауер с мужем Йозефом и двумя дочерьми жили на Диксмуиделаан. Рашель была приветливая полная женщина лет сорока, с каштановыми волосами. Улыбка озарила ее лицо, когда дядя Давид представил меня.
— Племянник, — провозгласил он торжественно, весь в поту после подъема по лестнице. — Сын Доры. Ты же знаешь Девору из Ченстоховы?
Я почувствовал себя, так сказать, «легализованным» — был представлен не только я, но и моя родословная. Потом в комнату вошел муж Рашель, высокий широкоплечий мужчина, редкие волосы которого были зачесаны поперек головы. Он с большим наслаждением курил трубку. Его рукопожатие было крепким, как у водителя грузовика, хотя он шил изящные дамские блузки.
Мы сидели у них на кухне, и они расспрашивали меня о моих приключениях. Я рассказывал, и мне становилось легче.
— Какое счастье, что вы оба здесь! — сказала Рашель, обращаясь к дяде Давиду.
— Другие тоже выберутся, — ответил он.
Я взглянул на него с ожиданием и надеждой. Если существовали конкретные планы, я хотел знать о них. Но дядя Давид отвернулся, и я, пытаясь найти утешение, полностью отдался заботам Рашель и Йозефа.
Вскоре пришли домой дочери Фрайермауеров. Их звонкие счастливые голоса опережали их, когда, тараторя, они взбегали по лестнице на третий этаж. Шестнадцатилетняя Анни, более спокойная из них, увидев нас, слегка покраснела, но потом улыбнулась, обнажив прекрасные зубы. Нетти, которой было одиннадцать, не смущаясь, потянулась ко мне и чмокнула в щеку. Запах корицы и яблок плыл по квартире, и где-то посвистывал чайник. Мы сидели все вместе за столом и ели горячую запеканку из лапши.
— Как у мамы, — сказал я, и мне стало хорошо при этом воспоминании о доме. — Самый большой комплимент, который я могу сделать.
— Возьми еще кусочек, — сказала Рашель. Опять как моя мама.
— Лео, — сказал Йозеф, попыхивая трубкой, — мы хотим, чтобы ты чувствовал себя у нас как дома.
Эти слова очень тронули меня, но ничего не добавили. Мне нужно было разобраться с запутанными географическими реалиями своего существования и смесью эмоций, связанных с этим.
— У тебя есть сестры? — спросила Анни, старшая дочь.
— Да, — ответил я, — моя сестра Генни примерно твоего возраста. Восемнадцатого октября ей исполнилось шестнадцать.
— А мне двадцать пятого октября.
— Это был день, когда я покинул Вену, — сказал я. — Три недели назад, во вторник.
Девочки расспрашивали о моих приключениях, и их интерес был мне приятен. Чуть позже дядя Давид поднялся, собираясь уходить, и я встал, присоединяясь к нему. И тут произошли две вещи, которые согрели мне сердце: Рашель, повторив слова Йозефа, сказала, чтобы я чувствовал себя у них как дома, и Анни предложила в конце недели встретиться с ней и ее друзьями. Я воспринял это как нечто большее, чем просто дружеский жест. После бесконечных изменений и переездов наличие планов на семь дней вперед выглядело как долгосрочное обязательство, и я был счастлив согласиться. Я с восторгом представлял себе, что так долго смогу жить в одном месте.
В понедельник мы с дядей Давидом отправились в Антверпенскую ратушу — огромное, богато украшенное здание с позолоченным фасадом. Город был полон спешащих по делам людей, я же часто останавливался, заглядываясь на витрины магазинов. «Пошевеливайся», — торопил меня дядя. В ратуше чиновник в очках и зеленой фуражке поздравил меня с прибытием в Бельгию. Рядом с ним был указатель, напечатанный, как и на почтамте, на идише. Чиновник сочувствовал мне, как будто знал, каких усилий стоила мне дорога сюда. Он спросил меня о моем образовании, религии и причинах бегства из Германии. Я рассказал, что у меня там осталась семья. Да, да, кивнул он. Он знал подобные истории.
— А дальше? — спросил он. — Собираетесь ли вы эмигрировать?
Крохотная Бельгия, втиснутая между Францией и Германией, уже с 1933 года принимала беженцев. Их число неуклонно росло с каждым новым актом немецкой агрессии, с каждым новым жестом усмирения Запада, с каждым враждебным актом против евреев. Бельгийским чиновникам необходимо было удостовериться, что пребывание здесь будет только временным.
— У меня есть тетя, тетя Софи, которая живет в Соединенных Штатах, — сказал я. — Я хотел бы поехать туда. Но я не знаю, сколько времени потребуется, чтобы получить визу.
Он снова кивнул. Америка путано реагировала на беспорядки в Европе. Президент Рузвельт разыгрывал свои политические карты, но евреи в этой игре имели, кажется, невысокую цену. Тетя Софи ждала меня в Америке с распростертыми объятиями, да и остальные тоже надеялись на нее: ее сестра — тетя Мина, ее невестка — моя мама и другие члены семьи. Между тем и в Вене, и в Люксембурге, и теперь в Антверпене все мы ждали и ждали.
Чиновник дал мне временное разрешение на проживание, затем были сделаны две фотографии, дополнительно подтверждающие, что я добрался до места, где меня приняли. И я тоже старался ответить Антверпену за гостеприимство: быстро учил фламандский — язык, имеющий голландские корни, на котором говорили в Северной Бельгии. Мое знание немецкого помогало мне, как и двухлетнее обучение французскому в гимназии.
Мир находился на пороге новой большой войны, но жизнь по-прежнему состояла из мелких бытовых дел, которые нужно было преодолевать в первую очередь. Скоро стало холоднее, а до ближайшей общественной бани было несколько кварталов. Я не ходил туда по пятницам, избегая длинных очередей из евреев, которые мылись перед Шаббатом. Хозяйка посоветовала мне использовать для купания переносную ванну из цинка, находящуюся во встроенном шкафу в коридоре. Иногда этого было достаточно, но когда я шел в общественную баню и вставал под душ — это было такой роскошью, что зачастую только нетерпеливые стуки в дверь стоящих в очереди могли вывести меня из состояния блаженства.