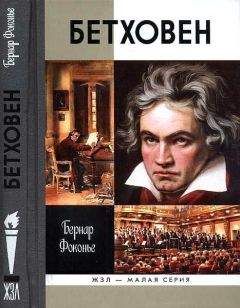Но Бетховен перенес квартет в совершенно иной мир звучания: симфоническая мощь, использование непривычных русских тем, замысел настоящего цикла, в котором часть одного квартета перекликается с другим, а финал третьего отсылает к вступительному аллегро первого. «Если фортепиано, а затем оркестр сыграли для Бетховена роль творческой лаборатории, — отмечает Мейнард Соломон, — теперь его эксперименты разворачивались на поле струнного квартета». В это время Бетховен намеревался посвятить себя почти исключительно сочинениям такого рода, способным придать глубину его мысли как великого архитектора музыкальных форм.
Разумеется, это трудное, даже суровое предприятие, эти сложные концепции с вкраплениями небывалых приемов, это постоянное изобретение новых структур, ритмических импульсов, мелодическое богатство квартетов (их мелодии сбивали с толку, поскольку подразделялись на несколько мотивов), — всё это не сразу находило понимание. Исполнители неохотно брались за столь революционные сочинения (тогда еще не существовало термина «авангард»). Скрипач Радикати даже заявил, что эти квартеты — не музыка, и тотчас получил ответ маэстро: «О, это не для вас! Это для будущего!» А обращаясь к великому скрипачу Игнацу Шуппанцигу, верному другу и просвещенному почитателю его квартетов, жаловавшемуся на сложности исполнения, Бетховен добавил: «Неужели же я думаю о ваших жалких струнах, когда со мной говорит дух?»
Подлинных ценителей это не ввело в заблуждение, хотя восторженного приема пришлось ждать еще долго. Уже в 1808 году Иоганн Фридрих Рейхардт сравнил Бетховена с Микеланджело. Пять лет спустя, в 1811 году, «Альгемайне музикалише цайтунг» написала по поводу тех же самых квартетов, что «композитор полностью отдался самому восхитительному вдохновению и необыкновенной игре воображения… и прибегнул к столь глубокому и сложному искусству, что мрачный дух целого отразился в шутливом и легком». И всё же хорошие музыканты-любители просили пощады, напуганные трудностью исполнения этих произведений, как, например, английский корреспондент Бетховена, некий Джордж Томсон, который написал ему в 1818 году по-французски такую наивную и прелестную фразу: «Нельзя ли придать очаровательной силе Вашего искусства более простую форму? Не может ли Ваш гений снизойти до сочинения столь же великолепной музыки, но менее трудной для исполнения, чтобы и любители могли разделить это роскошное пиршество?»
В общем, этакий Бетховен «для чайников». Мы не знаем, что ответил ему маэстро.
Чудесный 1806 год. Пусть друг Стефан фон Брейнинг находит Бетховена мрачным и унылым, разочарованным и уязвленным после провала «Леоноры», по его творческой активности не скажешь, что он впал в депрессию. Он закончил Четвертый концерт для фортепиано с оркестром (соль мажор, опус 58), начатый в предыдущем году, тесно связанный по замыслу и звуковой атмосфере с «Леонорой», в частности, в знаменитой второй части — мрачном диалоге, настоящем сражении между роялем и оркестром, напоминающем арию Флорестана, в конце которой он валится без сил. А третья часть этого мощного произведения — взрыв звуков, подчиненный ритму, выражающий дикую радость, неудержимый порыв.
Закончив концерт, Бетховен с партитурой под мышкой отправился к Фердинанду Рису. «Вы должны сыграть это в ближайшую субботу в театре Кёртнертор», — сказал он без долгих предисловий: он мог быть тираном, когда речь шла о его сочинениях. Пять дней на то, чтобы разучить и отрепетировать такое сложное и монументальное произведение, — это было просто невозможно. Рис отказался. Бетховен рассердился и ушел к Штейну, другому пианисту, который неосторожно согласился. Конечно, ко дню концерта он был не готов. Вместо Четвертого концерта сыграли Третий — концерт до мажор. Премьера нового произведения, в конце концов, состоялась в марте 1807 года, одновременно с Четвертой симфонией; за роялем был сам Бетховен.
Его потребность творить была неутолимой. Он достиг возраста, когда Моцарт уже умер, — 35 лет. Словно напоминание. Сколько времени ему остается прожить, если тело постоянно изменяет? Не о Моцарте ли он думал, сочиняя летом 1806 года лучистую Четвертую симфонию, которую ему заказал граф Опперсдорф? Он немедленно взялся за этот заказ. Получилось странное произведение, местами до крайности напряженное, а порой купающееся в атмосфере душевного покоя и примирения. По замечанию Элизабет Бриссон, это «синтез новшеств из „Фиделио“, Седьмого квартета опус 59, Первой и Третьей симфоний: медленное вступление „а-ля Флорестан“, типичный ритм литавр во второй части, как в Седьмом квартете, а в финале — навязчивое повторение одинаковых диссонирующих аккордов, как в первой части „Героической“». В общем, пауза — но какая! — перед экспериментами с новыми формами.
В те же летние месяцы он набросал на бумаге первые наметки Пятой симфонии и Шестой, которая станет «Пасторальной», — в знойном покое лета, под Гейлигенштадтом…
С наступлением осени он отправился в Силезию по приглашению князя Лихновского. Из этой поездки не вышло ничего хорошего, и это еще мягко сказано.
Пока Людвиг находился в Силезии, в замке князя, Наполеон отказался подчиниться ультиматуму прусского короля, требовавшего вывести французские войска из Германии. Разногласия привели к вооруженному конфликту: 14 октября 1806 года Наполеон наголову разбил прусскую армию при Йене, и победоносные французские войска оккупировали Пруссию. По законам военного времени солдат размещали на постой к местным жителям, и в замке князя поселились французские офицеры. Разгневался ли Бетховен? Именно к этому времени относится его знаменитая фраза о Наполеоне, которого он бы побил, если был бы таким же хорошим стратегом, как музыкантом. Будучи светским человеком, князь обращался с постояльцами учтиво. Однажды вечером он даже предложил Бетховену сыграть что-нибудь перед этим ареопагом. Надувшийся Людвиг отказался наотрез. Князь настаивал, музыкант упрямился. Просто немыслимо преподнести свою музыку этим солдафонам, офицерам по просьбе человека, который настолько его разочаровал. Просто немыслимо вернуться к роли артиста-слуги, зависящего от воли хозяев. Князь полусерьезно пригрозил Бетховену отдать его под арест: наверное, это была громоздкая шутка, пережиток самодурства феодала, не желающего ударить лицом в грязь перед иностранными военными. Лихновский не приучил Бетховена к таким манерам: навещая его, он старался не шуметь и настолько почитал его гений, что был готов простить любые причуды. Но спор разгорался, и Бетховен «сорвался с цепи».
«Если бы не граф Опперсдорф и другие, началась бы нешуточная потасовка, ибо Бетховен схватил стул и собирался разбить его о голову князя Лихновского, который велел взломать двери в спальню Бетховена, где тот заперся, — сообщает Рис. — По счастью, Опперсдорф встал между ними».