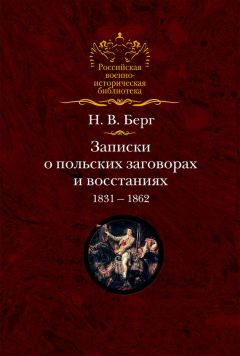Повторяя за некоторыми взрослыми, что восстание 1846 года не удалось единственно потому, что тут вмешался «Эриван», школьники бросили между собой жребий, кому его убить, чтобы поправить дела, если не в настоящем, то хоть для будущего. Жребий пал на какого-то неловкого и очень юного гимназиста. Тогда один ученик 7-го класса 1-й Варшавской гимназии, Антон Рудский, вызвался сам, без всякого жребия, убить «Эривана» из ружья, не то из пистолета, будучи хорошим стрелком.
Заговор этот сделался известным правительству по причине хвастливой болтовни ребят. Рудского арестовали. После оказались сопричастными к тому же делу варшавские жители: Генрих Мониковский и Лосевич.
Так же точно медленно приходили в себя разыгравшиеся деревенские элементы Галиции. Мужики не хотели ничего делать, ни взносить податей. Были даже такие, кто пресерьезно требовал от правительства обещанных наград за головы помещиков. «Ведь нам же читали о Пасхе (говорили они) по всем костелам благодарность эрц-герцога за то, что мы порешили помещиков!»
Так поняли они прокламацию эрц-герцога Фердинанда, которую действительно читали по костелам и где была выражена благодарность правительства крестьянам за сочувствие и за то, что между ними не открыто заговорщиков.
Весной во многие деревни пришлось послать военные команды, и только при их помощи водворился кое-как прежний порядок, и крестьяне стали работать. В иных, особенно беспокойных деревнях даже были поставлены для устрашения народа виселицы.
Союзные войска стояли в Кракове до июня месяца. Наших было там постоянно: 2 батальона, 2 конных орудия, легкая батарея № 5, сотня донских казаков и сотня мусульман.
Карбонарские клубы, прокляв своих союзников-поляков за излишнюю горячность и неумение вести надлежащим образом заговор, продолжали свои работы и подготовили к 1848 и 1849 годам несколько взрывов. Поляки не преминули пристроиться там, где это оказалось удобно. Восстание Познанского княжества имело для них связь со всеми революционными затеями эмиграции после 1831 года; было одно и то же дело, прерывавшееся вследствие разных обстоятельств.
Вот что говорит об этом Мирославский, начиная свое описание «Познанских происшествий».
«Страдающая местная демократия (Demokracya krajowa) и взывающая демократия эмиграции, долго отыскивая друг друга под двойным гнетом чуждого наезда и своего шляхетского хозяйничанья в стране, наконец встретились в заговорах, начавшихся с 1836 года спорадически во всех трех захватах вдруг и приведенных в 1844 и 1845 годах Централизаций демократического общества к одной общей деятельной конфедерации. Приостановленное (zawieszone) в 1846 году, восстание ничуть не сложило оружие под виселицей Потоцкого и Висневского[136], под топором Шели[137], под процессами пруссаков. Запертое в тюрьму в течение 1846–1847 годов[138], в 1848-м оно выступило опять на зов европейских потрясений, все то же самое, с тех же самым евангелием, которое не весть когда будет проповедано (nie przegadaną jewangelją), с той же непреложной верой в святость своих догматов и в достоинство средств, которыми рассчитывало дойти до цели»[139].
Поляки поднялись в Познани в 1848 году, потому что там поднялось и немецкое население, узнавшее о движении Берлина и требовавшее от правительства того же, чего требовал Берлин. Само собой разумеется, что заговорщики немцы обрадовались лишним революционным рукам и братались с поляками до тех пор, пока поляки были им нужны для их немецкого дела. Берлинцы вынесли Мирославского с торжеством из Моавитской тюрьмы[140], при оглушительных криках «ура», как бы своего собственного вождя, и он, имев несколько бесплодных объяснений с берлинскими заговорщиками, которых учил, «как действовать далее», отправился в Познань и принял начальство над познанскими повстанцами из поляков, которые называли его «wodzem zmаrtwychwstalym», то есть «воскресшим из мертвых вождем».
Но берлинское правительство весьма скоро и ловко окончило все счеты со своими немецкими повстанцами, и они, будучи удовлетворены в своих требованиях, успокоились и обратились к мирным занятиям. Поляки остались одни, и тоже, конечно, должны были успокоиться и положить оружие, несмотря на несколько удачных схваток с прусскими войсками, например, под Вржеснею, Соколовым и Милославом. Мирославский снова попался в руки прусского правительства, но на этот раз был помилован и уехал в Париж.
Мы не описываем подробно этого восстания, так как оно не имело с нашей Польшей никакой связи. По крайней мере эта связь нигде и ни в чем ярко не обнаружилась. Любопытствующих знать о нем ближе отсылаем к книге Мирославского, несколько раз нами приведенной. Кроме того, есть и еще описание тех же событий, между прочим, Морачевского.
В следующем за тем 1849 году известный маневр Паскевича предупредил восстание Галиции, а с ней, вероятно, и Познани.
В это время возник в Литве одинокий (если верить Авейде), независимый от Централизации заговор, о котором, кажется, нигде еще не было писано. Он состоял преимущественно из школьной молодежи и ограничивался главнейшим образом литовскими губерниями, с самым незначительным участием Малороссии; но в Царство, по-видимому, не проникал. Вождями этого заговора считаются два брата Далевские, Франц и Александр, к которым пристал позже служивший чем-то в наших войсках, стоявших в Вильне, Сигизмунд Сераковский, тогда еще молодой человек.
План литовских заговорщиков был таков: или поднять восстание в то время, когда венгерская революция примет счастливый исход и Дембинский или Высоцкий вторгнутся в русские пределы; или восстанием, поднятым в тылу действующей армии, отвлечь русские силы и этим помочь мадьярам. Сераковский был послан переговорить об этом с Дембинским и благополучно перебрался через Польшу и Галицию, но на обратном пути арестован, и тут все узнали[141].
Далевские были сосланы в Сибирь, в каторжную работу, а Сераковский разжалован в рядовые и отправлен в Оренбургские батальоны. И с ним, и с Далевскими нам еще придется встретиться.
Наконец настал тяжелый для нас 1855 год, с его Крымской кампанией, с Севастополем. Казалось, когда бы лучше встать полякам, как не в это время; между тем они не встали; даже не было нигде к этому видимого поползновения. Авейде говорит: «Люди, не знавшие нашего положения, но вспоминавшие наши до 1850 года конвульсивные революционные порывы, предлагали вопрос: отчего не восстали мы во время Крымской войны, несмотря на всю нашу ненависть к русскому правительству? Мы не восстали, потому что не могли восстать, потому что мы отупели и были слабы, невыразимо слабы»[142].