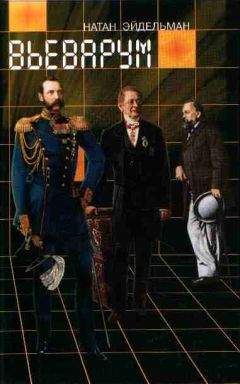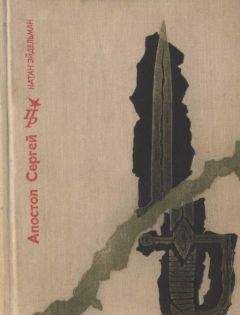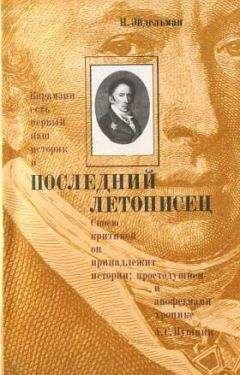Вот что сказал Горчаков. Но притом он не сказал академику, мечтавшему узнать хоть крупицу нового о Пушкине, что в его архиве хранится неизвестная озорная лицейская поэма «Монах» и коечто другое из Пушкина. И академик Грот не сказал лишнего, не потребовал том Пушкина и не стал декламировать:
Девичье поле. Новодевичий монастырь.
Народ просит Бориса принять царство.
Один.
Все плачут. Заплачем, брат, и мы.
Другой.
Я силюсь, брат. Да не могу.
Первый.
Я также. Нет ли луку?
Потрем глаза.
Второй.
Нет, я слюней помажу.
Что там еще?
Первый.
Да кто их разберет?
Народ.
Венец за ним! Он царь! Он согласился!
Борис наш царь! Да здравствует Борис!
Поэма «Монах», уничтоженная Горчаковым, была у Горчакова. Уничтоженные Горчаковым строки из "Бориса Годунова" жили в "Борисе Годунове". Пушкин обещал в 1825 году выбросить строку про «слюни» — и оставил, а Горчаков не узнал про обман. Первому слушателю «Бориса», видно, не довелось его прочесть.
Если б Горчаков узнал то, что знал Грот, возможно, воскликнул бы: "Ну вот, Александр, с ним всегда так — несерьезен!"
Но беседы Пушкина с Горчаковым не обрываются и в 1880 году. Вскоре после открытия памятника в Москве умирает Комовский… Пушкин не знал, кому посвящает последние строки "19 октября", а Горчаков, единственный, узнал.
Кому ж из нас под старость день Лицея
Торжествовать придется одному?
Несчастный друг! Средь новых поколений
Докучный гость и лишний, и чужой,
Он вспомнит нас и дни соединений,
Закрыв глаза дрожащею рукой…
Пускай же он с отрадой хоть печальной
Тогда сей день за чащей проведет,
Как ныне я, затворник ваш опальный,
Его провел без горя и забот.
Князь заслужил последнюю награду — еще десять пушкинских строк. Но мало того — министр совсем не считал себя "несчастным другом". Кажется, он с отрадою провел не один, а многие дни 1880, 1881, 1882, и так — до 28 февраля 1883 года. Те дни, когда он был последним лицеистом. Исполнилось все, о чем он мечтал, — он был счастлив. "Пред грозным временем, пред грозными судьбами…"
Однако даже и это его состояние Пушкин предвидел: графиня в "Пиковой даме" была "погружена в холодный эгоизм, как и все старые люди, отлюбившие в свой век и чуждые настоящему…". Так и не прочитал никогда Горчаков опубликованные уже после его смерти черновые пушкинские строки:
Где ж эти липовые своды?
Где Горчаков, где ты, где я?
Так-то, Огарев, рука в руку входили мы с тобой в жизнь! Шли мы безбоязненно и гордо, не скупясь, отвечали всякому призыву, искренне отдавались всякому влечению. Путь, нами избранный, был нелегок, мы его не покидали ни разу; раненые, сломанные, мы шли, и нас никто не обгонял. Я дошел… Не до цели, а до того места, где дорога идет под гору, и невольно ищу твоей руки, чтоб вместе выйти, чтоб пожать ее и сказать, грустно улыбаясь: "Вот и все"…
Жизнь… жизни, народы, революции, любимейшие головы возникали, менялись и исчезали между Воробьевыми горами и Примроз-Гилем; след их уже почти заметсн беспощадным вихрем событий. Все изменилось вокруг: Темза течет вместо Москвы-реки, и чужое племя около… И нет нам больше дороги на родину… Одна мечта двух мальчиков — одного 13 лет, другого 14 — уцелела!
Пусть же "Былое и думы" заключат счет с личной жизнию и будут ее оглавлением. Остальные думы — на дело, остальные силы — на борьбу.
Таков остался наш союз…
Опять одни мы в грустный путь пойдем,
Об истине глася неутомимо, —
И пусть мечты и люди идут мимо!
Герцен, "Былое и думы"
С чего проснулось дней былых
Душе знакомое волненье?
Н. П. Огарев
Хотя с той поры прошло почти 5000 дней, но мне кажется (может быть, самообман?), что помню буквально все. Сначала сажусь на электричку и еду 57 километров на северо-запад от столицы. Со станции шагаю еще километра два к своей новой (после школы) работе. У входа близ Дамасской башни бросаю взгляд на желто-красный лес, покрывающий гору Фавор, замечаю за воротами подземную церковь, где вниз ведут тридцать три ступени (по числу лет Иисуса Христа) и читаю объявление: "В воскресенье пионерский слет в Гефсиманском саду"{4}: те, кто бывали в Истре, в Новоиерусалимском монастыре (где расположен Московский областной музей), вероятно, запомнили красоту и странное своеобразие этих мест; меня, во всяком случае, редко оставляло чувство некой тайны, рядом с которой мы, научные сотрудники, ходим и только случайно с ней не сталкиваемся.
Архитектурные формы монастыря уводили воображение на Восток, в первые века нашей эры; в библиотеке музея старинные западноевропейские фолианты соседствовали с прижизненными пушкинскими изданиями и комплектом журнала «Современник» времени Чернышевского и Некрасова; подземный ход, который начинался в монастыре, удалось пройти до плотного завала, где прежние проходчики, очевидно монахи, оставили свою «памятку» — водочные бутылки с этикеткой "1886 год"; сабли с восточными надписями (дворянские военные трофеи времени Румянцева и Суворова) перемежались с вещами, регулярно доставляемыми в музей окрестными жителями; монетами, обломками изразцов, медалями.
Когда стемнеет, директор музея, ныне покойный Дмитрий Вербанович Петков, поведет нас, нескольких своих сотрудников, в обход. Громадным ключом размыкается замок — и мы входим в древний храм, полуразрушенный страшным фашистским взрывом 1941 года. Свод провалился, и снизу мы видим звезды, к которым тянутся синебелые стены — память о Бартоломео Растрелли и других мастерах, два века назад добавивших к прежней архитектуре свое дворцовое барокко. Из щелей и выбоин в стенах лезет трава и даже небольшие кусты. Несколько шагов в сторону — и вдруг возникает начало XIX столетия, строгий, изящный классицизм, рука великого Казакова, но там и сям в полумраке поблескивают цветные изразцы, выполненные задолго до всех прочих украшений по приказу того страшного и могучего владельца, который триста лет назад велел здешним лесам, горкам и речкам называться по-евангельски, который однажды согнал тысячи мужиков, и они удвоили естественный холм над рекой Истрой (нареченной Иордан), который в безумной гордыне велел затем воздвигнуть на этом холме храм по подобию самого главного для христиан храма гроба господня в Иерусалиме.