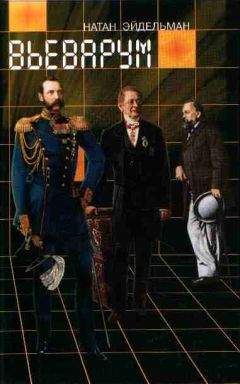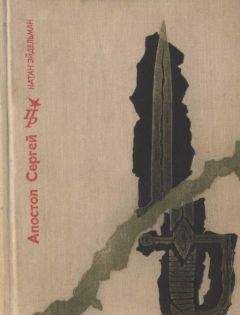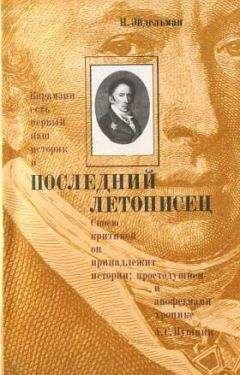Когда стемнеет, директор музея, ныне покойный Дмитрий Вербанович Петков, поведет нас, нескольких своих сотрудников, в обход. Громадным ключом размыкается замок — и мы входим в древний храм, полуразрушенный страшным фашистским взрывом 1941 года. Свод провалился, и снизу мы видим звезды, к которым тянутся синебелые стены — память о Бартоломео Растрелли и других мастерах, два века назад добавивших к прежней архитектуре свое дворцовое барокко. Из щелей и выбоин в стенах лезет трава и даже небольшие кусты. Несколько шагов в сторону — и вдруг возникает начало XIX столетия, строгий, изящный классицизм, рука великого Казакова, но там и сям в полумраке поблескивают цветные изразцы, выполненные задолго до всех прочих украшений по приказу того страшного и могучего владельца, который триста лет назад велел здешним лесам, горкам и речкам называться по-евангельски, который однажды согнал тысячи мужиков, и они удвоили естественный холм над рекой Истрой (нареченной Иордан), который в безумной гордыне велел затем воздвигнуть на этом холме храм по подобию самого главного для христиан храма гроба господня в Иерусалиме.
Потом, когда патриарх всея Руси Никон был низвергнут и сослан царем Алексеем Михайловичем, среди разных прегрешений ему вспомнили и сам замысел Нового Иерусалима, поставивший "человеческое выше божеского". Достроенного храма патриарх так и не увидел, скончавшись на обратном пути из северной ссылки.
Мы же входим в склеп — гробницу Никона, зажигаем свечу, и вдруг саркофаг странно и страшно начинает светиться сотнями огоньков: это слюда, вкрапленная в гранит, отозвалась на стеариновое пламя. Тут же сверху доносится ни на что не похожий жуткий гул, и мы вздрагиваем, хотя знаем, что это встревоженные голуби в уцелевших сводах плюс необыкновенное эхо; мы знаем, но черный кот, сидевший на плече у Льва Алексеевича, вдруг спрыгивает и как сумасшедший несется по склепу, ударяясь о стены и слюдяные искры, — тот самый кот Черныш, который поражал всех необыкновенным спокойствием и глухонемой молчаливостью.
— Да, друзья, — сказал хозяин кота, — тут два пути: или страх, или воспарение души…
Василий Васильевич, не любивший столь замысловатых изречений, выразил охватившее его чувство иначе и сказал, чуть гнусавя:
— А пойду-ка я в поля…
Это означало, что ему захотелось в глубинные районы, отдаленные деревни, где научный сотрудник музея, сильно смахивающий на древнего странника, легко добывал из старых прабабушкиных сундуков, чемоданов, амбаров то деревянную утварь позапрошлого века, то вдруг редчайший печатный листок — отречение Константина в пользу брата Николая Первого, то подшивку «Бедноты» за 1920 год…
В эту торжественную минуту ответственных решений только Петр Герасимович, охотник и биолог, ведавший отделом природы, не сказал ничего. Он решительно зашагал к выходу. Ему еще работать и работать — обещал сегодня немного помочь директору: ведь на квартире Петкова каждого входящего обязательно приветствовал угрюмый питекантроп или интеллектуальный синантроп; над котелками и тазами висели, кипели или сохли веселые динозавры и свеженькие мастодонты, а на бельевой веревке вниз головой дремали птеродактили… Дмитрий Вербанович был умелым художником-муляжистом, и, с тех пор как музейное начальство решило, что бронтозавр — существенный элемент антирелигиозной пропаганды, — мезозойские и палеозойские гости не переводятся в его кабинете и квартире…
Запирая собор полупудовым ключом, директор подытоживает наши ощущения: "Да, ребята, тут еще тайны и тайны для нас и после нас…" Сказал — и пошел к своим питекантропам, оставив нас в сомнении и размышлении: что за тайны?
То ли несметные клады Никона, зарытые на Фаворе и под монастырской стеной (разумеется, в округе мало кто сомневается в их реальности), то ли библиотека царя Ивана Грозного, которую будто бы патриарх вывез и тоже схоронил перед опалою, и, может быть, за тем завалом, где лежали бутылки с этикеткой 1886 года…
— А пойду-ка я в поля, — повторил Василий Васильевич и тут же, конечно, пошел…
Что он разыскал в тот выход, не помню. Но очень хорошо помню, что на другой день я отыскал свою тайну — небольшую, но для меня удивительную… Это совпадение: ночь, гробница, разговор о таинственном и на другой день находка — неестественно, фантастически; но мы там, в стенах старинного монастыря-музея, где под полом лежали пустые гробы, приготовленные впрок для монахов, где было так тихо, что невозможно было уснуть, где на каждом столе можно было взять случайную книгу и прочесть, — именно в этом месте необыкновенное казалось столь нормальным, что было бы более странным, если бы на другой день никто ничего не открыл.
* * *
— Там у нас в фондах, — сказал наутро Дмитрий Вербанович, — много всякой редкой запретной литературы прошлого века. Коли интересуетесь, так разберитесь.
Я тут же взялся за дело и через час с помощью почтенной фондохранительницы Анны Николаевны обнаружил редкое обилие герценовского «Колокола». Тогда еще не вышло научное факсимильное издание этой газеты, ныне осуществленное Академией наук, и даже в Ленинской библиотеке «Колокол» выдавался только в Отделе редких книг. Позже, когда я узнал, что тираж газеты не превышал двух-трех тысяч экземпляров, причем некоторая часть их захватывалась и уничтожалась российскими властями, а смелые читатели обычно после ознакомления спешили расстаться с опасной уликой, позже я не переставал изумляться нашему кладу: несколько десятков герценовских газет!
Если бы можно было узнать, откуда, через чьи руки прошли они, прежде чем осесть в фондах подмосковного музея! Но это почти не представлялось возможным…
Так перекладывал я сшитые (кем-то!) и разрозненные номера знаменитейшего издания Вольной русской типографии, бившего сто лет назад из Лондона по петербургским властям, воспитывавшего целое поколение, будившего спящих, "звавшего живых"… И вдруг на моем столе оказывается экспонат, внесенный в инвентарную книгу под номером 10 277: сборник в переплете, на яркой зелени которого золотым тиснением — изображение обыкновенного колокола и герб с инициалами ЮГ ("Юрий Голицын"). Под переплетом — белоснежный титульный лист, на котором карандашом набросано: Leicester Square, Waterlow station, Waterlow bridge, offset в 12 ч. 45 мин. Tinkler's house" (то есть: "Лейчестер сквер, вокзал Ватерлоо, мост Ватерлоо, 12 ч. 45 мин. Тинклер Хауз"), здесь же план, очевидно — «памятка» для приезжего.
С лондонского вокзала Ватерлоо более ста лет назад отправлялись на пригородном поезде те, кто стремились в назначенное время попасть в Тинклер Лаурел Хауз: именно по этому адресу в пригороде Лондона Путней жили в 1856–1860 годах Герцен и Огарев.