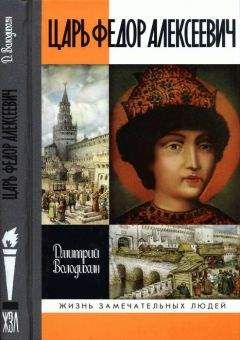— Вот и не удержался! — сказал я своей жене.
— Ничего, еще поборемся! — как всегда уверенно, заявила она. — С волками жить — по-волчьи выть: Пуанкаре любит «досье» и без него не выходит на трибуну, вот и мы соберем эдакое «досье», благо у тебя больше и канцелярии нет, из сохранившихся у тебя лично архивов и документов, да такое, что любой адвокат согласится принять на себя твою защиту. Важно только попасть на какого-нибудь настоящего политического врага Пуанкаре.
И после долгого раздумья выбор наш пал на сенатора де Монзи. К этому парламентарию, состоявшему юрисконсультом крупнейших банков и промышленных предприятий, я относился более чем настороженно, познакомившись с ним на работе по заказам во время войны. Больно уж этот хромой от рождения, но живой, как ртуть, человек мог обмануть, и не просто, а так, как обманывали, вероятно, его предки, тонкие умом, какие-нибудь итальянские иезуиты.
— Я и не скрываю, — шутливо говаривал он сам впоследствии, — я обманываю и всех готов обмануть, кроме двух любящих меня одновременно женщин и генерала Игнатьева.
Познакомившись поближе, я уразумел, что противоречивые до крайности оценки личности Анатоля де Монзи объяснялись тем, что сам-то он представлял собой воплощение противоречий. Он наслаждался ими, они давали пищу его воспитанному на римском праве тонкому уму, они заполняли его жизнь: она ведь тем более бывает интересна, чем больше в ней скрыто противоречий. Разве при беспринципности буржуазного общества не оказываются нередко циники нежными поэтами, а пуритане — тайными сластолюбцами. Трудно было угадать, из каких побуждений де Монзи ломал копья, чтобы добиться восстановления дипломатических отношений с Ватиканом, и еще более загадочной могла показаться после этого его поездка в Москву, «к моим друзьям большевикам», как он говорил в 1921 году.
Мое обращение к нему с протестом на решение Пуанкаре по русским финансовым делам пришлось де Монзи на руку, укрепляя ту позицию, которую он занял, оказавшись первым политическим деятелем, «скомпрометировавшим» себя отношениями с Москвой.
Ранним февральским утром шагал я, как помнится, вдоль мутной Сены, разыскивая дом № 7 на набережной Вольтера. Все здания в этом квартале сами будто говорили о прежних обитателях, о друзьях и врагах королей, о первой парижской квартире скромного капитана Бонапарта, об академиках, ценивших эти дома за близость к храму науки — Сорбонне, а в настоящее время просто о тех немногих парижанах, которым удавалось, не удаляясь от центра, найти вместе с тем в этих домах покой от городского шума.
В одном из них, в низких антресолях, в кабинете с пылающим камином, за большим письменным столом, отделанным бронзой в стиле Людовика XVI, сидел в удобной пижаме из мягкого бархата с шелковыми отворотами и в черной шапочке, прикрывавшей голову, лишенную всякой растительности, сам «патрон» (хозяин), как с благоговением прозывали де Монзи встречавшие меня его многочисленные сотрудники — тоже адвокаты, но не составившие еще столь необходимого для судебных дел громкого имени.
— Вот это «досье»! В нем я могу все понять, во всем разобраться! Вот как работают люди и без канцелярии, и без адвоката! — восклицал с увлечением де Монзи, созвавший по этому поводу своих помощников.
— Это перлы, истинные перлы! — то и дело вскрикивал он, просматривая мою переписку с «ликвидационной комиссией» и отпуская поминутно непечатные уличные эпитеты по адресу французских чиновников.
— Сами же расписываются в своей глупости, признаваясь в потакательстве врагам Советского Союза, испрашивая вашего разрешения засчитать нам возвращенные вами аэропланы и автомобили по цене старого лома. Да, да — старого лома! Это прелестно, — веселился де Монзи. — А теперь, что ж? Они решили просто-напросто и вас сдать в старый лом! Но постойте же! Мадлен! Мадлен! — закричал он вбежавшей в кабинет стенографистке и стал тут же диктовать от моего имени текст заказного письма Пуанкаре с такой точной передачей фактов, как будто все мои бумаги были уже давно ему знакомы.
— Если он нам не ответит, через неделю пошлем второе письмо, а еще через неделю — в суд! — закончил свидание этот непохожий ни на кого молодящийся, но уже много повидавший на своем веку политический brasseur d'affaires — воротила.
* * *
Как мы и ожидали, письма, без предварительной отправки которых нельзя было обратиться в суд, остались без ответа, и в конце апреля я получил вызов в Palais de Justice (Дворец правосудия) для слушания иска, предъявленного от моего имени самому председателю французского совета министров — Пуанкаре.
Любят французы посудиться, и судебные тяжбы, как большие, так и малые, еще с королевских времен вошли в быт жителей этой страны не только при их жизни, но и после смерти. Родиться можно законным и незаконным ребенком — поди доказывай! Основать торговое общество, даже фиктивное, можно законно и незаконно — поди оправдывайся! А уж при продажах и покупках всегда можно или рисковать попасть под суд, или быть вынужденным к нему обратиться. Дела по наследству тянутся тоже столь долго, что не всем наследникам выпадает счастье дожить до их окончания.
Я тогда еще не знал, что, переступая порог Дворца правосудия, люди теряли право не только защищать, но даже выражать свои мнения: за них думали и говорили те мужчины, а как я нередко замечал — и весьма миловидные женщины, напоминавшие в своих черных мантиях с широкими рукавами летучих мышей, которые проносились то и дело по грандиозным коридорам и залам. Среди них можно было встретить и бывших и будущих министров, и почтенных неудачников старичков говорунов, и худосочных юнцов с задумчивым взглядом, не потерявших еще студенческих повадок. Дворец правосудия открывал им путь от скамьи адвоката к парламентской трибуне.
Мой адвокат тоже преобразился: надев черную мантию и круглую шапочку, он перестал быть важным господином сенатором, а сделался только скромным «мэтром де Монзи».
Подхватив меня под руку, прихрамывая и, как все французы, куда-то торопясь, он привел меня в небольшой зал, где я встретил еще двух адвокатов: в одном из них, до неприступности важном господине, я признал юрисконсульта французской «ликвидационной комиссии» по русским делам, а в другом, таком прилично седеньком, — представителя Банк де Франс.
По приглашению председателя, старца с большой красной розеткой ордена Почетного легиона в петлице, говорившего без слов о высоком служебном положении его обладателя, оба адвоката противной стороны сели по правую сторону стола, де Монзи — по левую, а мне было предложено занять удобное кресло насупротив большого стола.