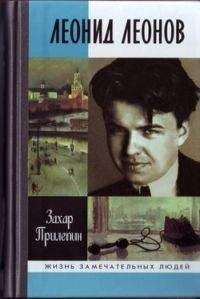Именно это место жительства описывает Мариенгоф в своих воспоминаниях. Дом по сей день стоит на том же месте, всё такой же снаружи, и даже лестницы, по которым бегал маленький Толя, — те же. Они жили на последнем, четвёртом этаже.
На детских фотографиях он ангелоподобен, у него, по моде того времени, длинные волосы, что делает Толю похожим на девочку.
«Нижний! Длинные заборы мышиного цвета, керосиновые фонари, караваны ассенизационных бочек и многотоварная, жадная до денег Всероссийская ярмарка. Монастыри, дворцы именитого купечества, тюрьма посерёдке города, а через реку Сормовские заводы…» — вот воспоминания Мариенгофа.
В доме — мопс Нерон, добрая нянька. Мальчик — пока единственный ребёнок в семье.
Мариенгоф вспоминает отвратительную историю, как он устроил невероятную истерику из-за того, что старенькая няня не стала доставать ему мяч, закатившийся за диван.
Дело дошло до того, что няню уволили, многократно извинившись и дав три золотые десятирублёвки (поверим автору, но такая щедрость всё-таки кажется перебором).
Мама просит прощения: «Ах, голубушка, тут уж ничего не поделаешь, ведь Толечку принимала сумасшедшая акушерка».
(Сравните со строчкой из поэмы Мариенгофа «Магдалина»: «Я ведь имею честь / Лечиться у знаменитого психиатра».)
Надо сразу сказать, что это одна из характерных для сочинений Мариенгофа черт — предельная откровенность. В молодости эта черта имела в его случае вид вызывающе цинический; собственно, цинизм тогда воспринимался им и его товарищами по ремеслу как эстетический приём.
В зрелости та же самая черта приобрела вид иной: пожалуй, в этом можно было бы обнаружить почти христианское смирение и самоуничижение, если б не отдельные «но».
Мариенгоф необычайно почитал Льва Толстого — и наверняка не раз сталкивался с яростной саморазоблачительностью, особенно характерной для позднего Толстого. Наследуя тому, кого он считал учителем, и сам Мариенгоф неизменно пытается показать, до какой степени низости он, — казалось бы, мыслящий, не злой, благовоспитанный человек — доходил не раз и не два.
Но в этом порой, как мне кажется, скрыта определённая авторская корысть, так и не избытое с юности желание удивить: вот какой я, полюбуйтесь.
Достаточно сказать, что, описывая те или иные свои выходки или откровенно подлые поступки, Мариенгоф периодически наговаривал на себя и брал вины куда больше, чем заслуживал по факту совершённого.
Ещё когда он учился в гимназии, умерла мать — Александра Николаевна.
Это первая страшная и преждевременная смерть в его жизни. У матери был рак желудка.
В мемуарах «Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги», написанных более полувека спустя, в 1950-х, он расскажет о детской реакции на смерть матери: «О как я ругал Бога! Какими ужасными словами!»
В этом детском богохульстве, конечно же, слышна великая боль о матери. Чего не скажешь о фразе в автобиографии Мариенгофа 1930 года: «Во время предсмертной агонии моей матери я играл в футбол. Я был капитаном команды и центрфорвардом».
Не в том беда, что он играл в футбол — рак не та болезнь, что уносит человека в одни сутки, и едва ли ребёнок способен отказаться от игр на все те месяцы или даже недели, пока болезнь длится. Беда в том, что 33-летний Мариенгоф мог бы этого и не писать. Но он уже выбрал себе роль к тому моменту — циника и паяца — и следовал ей неизменно.
В конце концов, надо заметить, после слов о центрфорварде Мариенгоф добавляет уже по-человечески: «Матч я выиграл, а безоблачность детства проиграл. Его голубизна для меня осталась навсегда подёрнутой дымком, который ест глаза до слёз».
Мало того, в «Моём веке…» он утверждает обратное: что был при матери в последние её часы и успел с ней проститься.
Учитывая все позднейшие саморазоблачительные мистификации Мариенгофа, есть смысл предположить, что про футбол он наврал…
На руках отца остались Толя и его младшая сестра Руфина. Характерно, что в автобиографической книге «Мой век…» Мариенгоф ни разу не называет её по имени. Сыграли свою роль не очень близкие отношения с сестрой — или здесь нежелание оглашать имя, имеющее явную этническую окраску? В любом случае, слово Бориса Михайловича в семье имело явный вес — едва ли нижегородской дворянке Хлоповой могла прийти в голову мысль назвать свою первую дочку Руфиной.
«С восьми лет / Стал я точить / Серебряные лясы», — пишет Мариенгоф в стихах; вполне возможно, что и с восьми; в любом случае ещё в нижегородской гимназии Мариенгоф увлёкся сочинительством, организовал поэтический кружок и выпустил номер юношеского журнала «Сфинкс».
«В памяти — один пожар в Нижнем, — напишет Мариенгоф в «Романе без вранья». — Горели дома по съезду. Глядишь — и как это не скувыркнутся домишки. Под глиняной пяткой съезда, в вонючем грязном овраге — Балчуг: ларьки, лавчонки, магазинчики со всякой рухлядью. Большие страсти и копеечная торговля.
Когда вспыхнул съезд, а ветер, вздымая клубами красную пыль, понёс её к Балчугу, огромная чёрная толпа, глазеющая на пожар, дрогнула. Несколько поодаль стоял человек почти на голову выше ровной чёрной стены из людей. Серая шляпа, серый светлый костюм с красной искоркой, жёлтые перчатки и жёлтые лаковые ботинки делали его похожим на иностранцу. Но глаза, рот и бритые, мягко округляющиеся скулы были нашими, нижегородскими <…>
Стоял он, как монумент из серого чугуна. И на пожар-то смотрел по-монументовски — сверху вниз <…> Вдруг кто-то шёпотом произнёс его имя. Оно обежало толпу. И тот, кто соперничал с чугуном, стал соперничать с пламенем».
Это был Фёдор Шаляпин.
«Несколькими часами позже я встретил свой монумент на Большой Покровке — главной нижегородской улице. Несколько кварталов прошёл я по другой стороне, не спуская с него глаз. А потом месяца три подряд писал по пять стихотворений в сутки, чтобы только приблизить срок прекрасной славы и не лопнуть от нетерпения, ожидая дня, когда в мою сторону станут тыкать бесцеремонным пальцем».
В упомянутой выше автобиографии Мариенгоф опишет другую версию: первые стихи к нему пришли в возрасте примерно тринадцати лет в гимназическом карцере, куда он угодил за то, что не встал при исполнении «Боже, царя храни» в нижегородском театре — просто потому, что не разбирался в музыке и не угадал эту мелодию; но здесь перед нами очередная, в стиле Мариенгофа, выдумка.
Уже с ранней юности Мариенгоф — театрал: в 50 метрах от его дома — Театр драмы, он посещает его вместе со своей первой любовью — Лидочкой.
Анатолий — поклонник символистов, в первую очередь Брюсова и Блока: «Блоком я бредил и наяву и во сне».