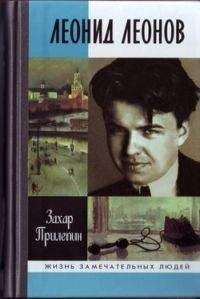Отец пожал плечами: «Сначала гимназия, мой друг, да и пошли лучше в кафешантанчик. Всё равно ведь однажды пойдёшь туда один, если уже не сходил». (Сходил, сходил.)
Анатолий слушается отца — неизменно ироничного и точного в суждениях. Хотя порой не оставляет ощущение, что, говоря про отца, наделяя его речь теми или иными репликами, дельными наблюдениями и парадоксами, Мариенгоф часто описывает не столько его, сколько самого себя — взрослого…
Итак, он оканчивает гимназию. Странно, но этот глубоко начитанный и быстро думающий человек, отлично знавший историю и античную литературу, писавший, как показывают рукописи, достаточно грамотно — учился на одни «тройки». Впрочем, да не покажется вам это сравнение некорректным, вышеупомянутый Лев Николаевич Толстой тоже учился в университете настолько дурно, что даже бросил его.
После окончания гимназии, летом 1916-го, Анатолия мобилизуют на фронт.
Мариенгоф уверяет, что его патриотический порыв к тому времени уже совершенно иссяк, и он (при помощи отца?) предпринимает некоторые — увенчавшиеся успехом — усилия, чтобы не попасть на передовую, а окопаться в тыловом учреждении. Если точнее: в инженерно-строительной дружине.
В автобиографии сказано, что циническая поговорка «Лучше всю жизнь быть трусом, чем один раз убитым» родилась у Мариенгофа именно в те дни и с его лёгкой руки ушла в народ. То, что она будет произноситься с еврейским акцентом, Мариенгоф не предполагал и посчитал такой подход ханжеским. Учитывая то, что в сочинениях Мариенгофа имеется десяток-другой отточенных афоризмов, здесь ему можно довериться. Мариенгофа обвинить можно во многом, но никогда он не был уличён в том, что брал чужое, — всегда хватало своего.
Впрочем, в мемуарах Мариенгоф говорит, что попадал под бомбёжки и не трусил: «Когда немецкий аэроплан бросал бомбы на 27-й эпидемический, отмеченный большим красным крестом, и все, запыхавшись, лупили в блиндаж, я довольно спокойно покуривал на крыльце…»
Что ж, и тут поверим на слово. Инженерно-строительные дружины занимались в числе прочего возведением оборонных линий — их не раз обстреливали.
«На голубое небо в пяти-шести местах упали очень милые снежинки, — не хочется думать, что это шрапнельные разрывы. Наши зенитные орудия обстреливают немца лениво, наперёд зная, что проку не будет. А тот летал тоже без толку, прогулки ради (как петербургская дама по солнечной стороне Невского проспекта) — не пропадать же хорошему дню: почему не прогуляться за пятнадцать вёрст до ближайшего тыла противника…» — это из романа «Бритый человек». Армейская жизнь Мариенгофа так или иначе будет отображена именно там. Нет возможности подтвердить документальность всех деталей в художественном тексте, но нет и особого смысла предполагать, что Мариенгоф мог их откуда-то выдумать — откуда? Да и зачем — если можно было их взять из собственной жизни? Тем более что фактически идентичные картины службы воспроизведены и в «Моём веке…».
«Жительствовали мы в чистых фанерных домиках. В комнатах было уютно. По вымытому полу разбегались кручёные, в разводах, половички. На столе лежала льняная скатерть…
Наша инженерно-строительная дружина прокладывала стратегические дороги среди непосаженных полей Западного фронта и строила стратегические мосты через звонкую, как струна, реку.
Работали в дружине татары из-под Уфы, сарты и финны. Татары были жалкие, сарты суровые, финны наглые. Притворяясь, что не понимают русского языка, они хрипели на покрики десятников: “сатана пергеле” и поблёскивали белёсыми глазами как ножами.
Кажется, из-за дохлой кошки, а может быть, собачонки, вытащенной из супового котла, финны пробездельничали три дня. В конце месяца у них из жалованья вычли прогул. Тогда финны разгромили контору, избили табельщика и подожгли фанерный домик начальника дружины. Пришлось вызвать эскадрон. Но финны разбежались раньше, чем уланы сели на коней…
Уланы гостили у нас несколько дней. Мы играли с ними в теннис, стреляли уток, катались на моторной лодке…»
Со скуки даже поставили спектакль — Мариенгоф написал тогда свою первую пьесу в стихах — «Жмурки Пьеретты…».
«— Как это вы сочиняете? Ну как? Как? — допытывал меня генерал. — Да ещё в стихах! Да ещё не о людях обыкновенных, а, видите ли, про арлекинов и пьеретт!»
В целом не самая страшная служба выпала на долю Мариенгофа.
Окончив школу прапорщиков, Мариенгоф возвращается в Пензу. Пока ехал домой — большевики взяли в Петрограде власть.
Итак, он — офицер, имеющий все шансы в скорой Гражданской отправиться воевать за Белую идею, но это, конечно, совсем не его история — Октябрьскую революцию Мариенгоф встречает восхищённо. О чём явственно будут говорить, — да что там «говорить» — вопить его стихи.
Тут тоже не столько политика, сколько эстетика — ведь революция при ближайшем рассмотрении развязна, цинична, контрастна, разноцветна, вульгарна. Всё как он любит: это его поэтика.
По возвращении с фронта Мариенгоф принялся за литературу всерьёз: пора становиться «одним на миллионы».
В 1918 году он выпускает первую свою книжку — «Витрина сердца». В одиночку придумывает поэтическую школу русского имажинизма (в Москве, независимо от Мариенгофа, чуть ранее тот же самый имажинизм, с подачи уже существовавших английских имажинистов или, точнее, имажистов, задумает поэт Вадим Шершеневич — идеи в воздухе витают).
В том же году, в конце мая, в Пензу вошли так называемые «белые чехословаки» — воинский корпус, сформированный в составе Русской армии из пленных чехов и словаков ещё во время мировой войны и не нашедший с большевистской властью общего языка.
И случается ужасное: в перестрелке нелепо гибнет отец Анатолия Мариенгофа.
В «Моём веке…» Мариенгоф опишет ситуацию так, будто бы причиной смерти отца послужил он сам — сына повлекло к «месту событий», отец побежал за ним на улицу и был смертельно ранен в пах.
В автобиографии ситуация доведена до типического, в стиле Мариенгофа злого абсурда с элементами бравады:
«На крыше нашего дома стоял большевистский пулемёт. Его ощупывали шрапнелями. Красногвардеец-пулемётчик попросил у меня табачку. Я принёс ему на крышу коробку папирос. Отец крикнул из окна:
— Анатолий, иди в дом!
Я ответил:
— Папа, здесь весело.
Тогда он влез на крышу и сказал:
— Если ты не уйдёшь, я сяду на эту трубу и буду сидеть.
Я пожал плечами:
— Сиди.
Он сел и закрыл глаза руками. А через несколько минут я уже вносил его в комнату на руках. Пуля попала в пах. Я плохо знал анатомию. Мне казалось, что рана не смертельна. Отца я любил бесконечно».