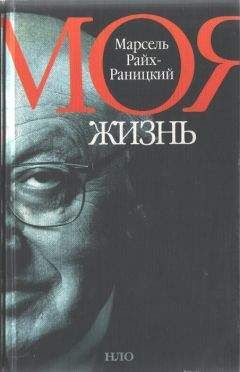Если ровесники в раннем детстве время от времени и подсмеивались надо мной, то повод им дал незначительный случай, который я тем не менее до сих пор, не могу забыть. Мне было пять или шесть лет, когда мать во время недолгого посещения своей берлинской родни увидела в магазине детский костюмчик с вышитой на нем надписью «Я послушный». Это показалось ей забавным. Оказавшись и в этом случае оторванной от жизни, мать, не задумываясь о возможных последствиях, приказала нашить ту же надпись в польском переводе на мои блузы и курточки. Я быстро превратился в посмешище детей и реагировал на это яростью и упрямством. Вопя и раздавая тумаки, я хотел доказать тем, кто надо мной потешался, что я особенно непослушен. Это принесло мне прозвище «Большевик». Не отсюда ли берет начало моя склонность противоречить, сохранившаяся на всю жизнь?
В один прекрасный день, когда я достаточно подрос, отец внезапно пришел домой, сопровождаемый бородатым мужчиной. У гостя, одетого в кафтан — черную одежду наподобие пальто, традиционную для ортодоксальных евреев, были необычно длинные пейсы. Этот молчаливый мужчина, показавшийся мне несколько зловещим, должен был стать моим учителем. Отец объяснил, что незнакомец будет учить меня древнееврейскому языку. Но ему не удалось сказать больше ничего, так как появилась мать, тотчас же вмешавшаяся в дело. Она решительно заявила, что я пока еще слишком мал для учебы. Разочарованного учителя без лишних слов спровадили восвояси, утешая надеждами на будущее. Отец не оказал никакого сопротивления. Эта его первая попытка вмешаться в мое воспитание оказалась и последней.
Мать так и не объяснила, почему она не хотела слышать о моем воспитании в духе иудейской религии. Когда пришло время послать меня в школу, она решила, что я, в отличие от брата и сестры, пойду в евангелическую народную школу, где обучение велось на немецком языке. Был ли это протест против еврейства? Нет, не обязательно. Она только хотела, чтобы я был воспитан в атмосфере немецкого языка.
Правда, с самого начала возникли серьезные трудности: я знал слишком много. В этом не было бы большой беды, но одновременно я знал и слишком мало. Воспитательнице, попечению которой меня вверили, доставляло удовольствие мимоходом и не прилагая больших усилий обучать меня чтению. Читать я научился очень быстро, только мне никто не показывал, как пишутся буквы. Правда, в нашей квартире стояла старая пишущая машинка, и для меня не составило труда набивать на листе бумаги отдельные буквы. Уже вскоре я сумел напечатать короткое письмо сестре, которая тогда училась в Варшаве.
Итак, мать отдала меня в немецкую школу. Директору школы, в высшей степени строгому человеку, который, если я не ошибаюсь, в начале Второй мировой войны был казнен поляками как немецкий шпион, она рассказала о ситуации, казавшейся ей необычной. Но он, похоже, не впервые сталкивался с такой проблемой и сразу же проверил меня. Оказалось, что я читал быстро и правильно. Этим, однако, дело далеко не кончилось. Директор объяснил не без юмора, что надо сразу же принять решение: «Если мы зачислим его в первый класс, то там он будет скучать на уроках чтения. Пусть идет во второй, но вам надо позаботиться, чтобы он дома научился писать». Мать не колебалась ни минуты: «Пусть идет во второй. У меня есть старшая дочь, которая обучит его писать. Он научится». Когда сегодня я рассказываю эту историю немецким авторам, то добавляю: «А он и до сих пор не научился». Нашим немецким писателям с их детскими душами эти слова доставляют просто огромное удовольствие.
Мать не предвидела последствий своего решения. В классе никого не интересовало мое умение писать. Но я умел читать и был единственным, кто уже прочитал несколько книг, о чем как-то раз гордо и легкомысленно заявил во время занятий. Это вызвало зависть одноклассников. С самого начала я выпадал из предписанных рамок, оказывался индивидуалистом. Я вряд ли мог представить себе, что так все и останется: в какой бы школе я ни учился, где бы ни работал, никогда полностью не вписывался в свое окружение.
Но в общем и целом в этой евангелической народной школе я не испытывал особенных огорчений, тем более что наша учительница, немецкая барышня по имени Лаура, обращалась со мной вполне дружелюбно. На это имелась серьезная причина: она брала у матери почитать новые книги, которые та постоянно получала из Берлина. Я еще помню, чего с нетерпением ждала барышня, изрядный бюст которой производил на меня сильное впечатление. Это было не какое-либо из больших литературных произведений того времени, но все же роман, взволновавший тогда всю Европу, — «На Западном фронте без перемен» Ремарка.
Мой собственный круг чтения не отличался особой оригинальностью. Я читал много, но примерно то же, что и другие дети, разве начал это делать существенно раньше. Сильнее всего у меня в памяти запечатлелись роман Диккенса «Оливер Твист» и «Робинзон Крузо» Даниэля Дефо, правда, обе книги в обычной обработке для «старших школьников». Еще сильнее очаровала меня книга совершенно другого рода — многотомный немецкий энциклопедический словарь. Вероятно, все дело было в иллюстрациях, от которых я не мог оторваться. С тех пор и возникло у меня пристрастие к справочникам всякого рода.
Но впечатления, вызвавшие самые большие последствия, были связаны с музыкой. Сестра играла на фортепьяно, и я часто слушал в нашей квартире Баха, а еще чаще — Шопена. Одновременно меня сопровождал и совсем другой инструмент — граммофон. У нас было много пластинок, которые выбирал отец, куда более музыкальный, чем мать. Кроме популярных симфонических произведений, которые представляли собой новинки в дни его молодости, — от сюит Грига «Пер Гюнт» до «Шахерезады» Римского-Корсакова — это были прежде всего оперы — «Аида», «Риголетто» и «Травиата», «Богема», «Тоска» и «Мадам Баттерфляй», «Паяцы» и «Сельская честь». Имелась и одна-единственная пластинка с музыкой Вагнера — рассказ Лоэнгрина о Граале. Я без устали слушал одни и те же арии, дуэты и увертюры. С тех времен берет начало мое тихое неприятие Грига и Римского-Корсакова и моя неистребимая любовь к итальянской опере, прежде всего к Верди, а также к Пуччини, верность которому я сохранил и по сей день.
Весной 1929 года в нашей семье происходили какие-то события, которые я воспринимал, не будучи в состоянии понять, что же, собственно, случилось. Я видел слезы матери и беспомощность отца, я слышал, как они горевали и жаловались. Их волнение и отчаяние возрастали день ото дня. Всем нам — и даже я, ребенок, чувствовал это — предстояло ужасное несчастье. Катастрофа, вызванная двумя причинами — мировым экономическим кризисом и складом ума отца, не заставила себя ждать. Мой отец был человеком серьезным и непритязательным, добрым и достойным любви. Но он, к сожалению, избрал не ту профессию, ибо применительно к нему не приходилось говорить о каких бы то ни было коммерческих способностях. Он был деловым человеком и предпринимателем, дела и предприятия которого, как правило, приносили очень мало прибыли или вовсе никакой. Конечно, отцу стоило бы рано или поздно понять это и осмотреться в поисках иного рода деятельности. Но для такого шага у него отсутствовала всякая инициатива. Усердие и энергия не принадлежали к числу его добродетелей. Свойственные отцу слабость характера и пассивность самым злосчастным образом определяли его жизненный путь.