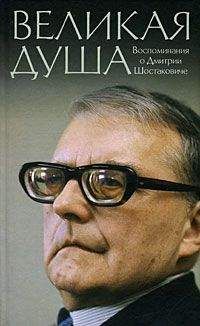Жившие в Горине композиторы делились на три категории — сообразно своему таланту и месту, занимаемому в советской музыкальной иерархии. И был такой порядок: каждому уезжающему из Дома творчества выдавались куриные яйца — 50, 40 или 30 штук. Это зависело именно от категории, которая была присвоена данному индивидууму. И Шостакович, который, разумеется, входил в первый разряд, бывало, смущался, если одновременно с ним получал свою порцию какой-нибудь третьеразрядный коллега.
И еще такая деталь. Чтобы попасть в деревню Горино, с поезда надо было сходить на станции, которая называлась Иваново-сортировочная. Так вот С. С. Прокофьев в отсылаемых оттуда письмах делал пометку: «Иваново-сортир».
Галина:
Мы, несколько девочек, выходим на середину комнаты и синхронно произносим:
— Э!..
Мы — участницы игры в шарады и должны изображать имя — Эразм Роттердамский. Первая часть: произносим «Э» — разом. А вторая часть такая: некто «рот тер дамский». Этот некто — юный Мстислав Ростропович, а дама, чей рот он тер, была я…
Происходило это во время школьных зимних каникул все в том же птицесовхозе № 69, то бишь в Доме творчества и отдыха композиторов. Там наше семейство и познакомилось с будущей знаменитостью. Ростроповичу предстояло стать весьма близким нам человеком, а потом и соседом по даче в Жуковке.
Той памятной мне зимою мы с Максимом катались с горки на лыжах, и происходило это под надзором Ростроповича, было у него такое поручение от наших родителей.
Галина:
Мы с Максимом стоим в кабинете отца, и он произносит:
— Улица Кирова, дом 21, квартира 48. Телефон К5-98-72. Запомнили? Повтори! И ты повтори!..
Нас только что привезли в квартиру, которую отец получил в Москве. И он требовал, чтобы мы назубок знали свой новый адрес и телефон. Вдруг потеряемся, и тогда без этого не обойтись.
Я хорошо помню нашу первую московскую квартиру — дом был старый, с высокими потолками, стоял он во дворе, прямо против Главного почтамта.
Максим:
Из радиоприемника доносится бодрый голос:
— Так! Ноги — на ширине плеч! Первое упражнение…
Еще раннее утро, в окнах зимняя тьма, а мы — папа, Галя и я — делаем наклоны и размахиваем руками под аккомпанемент невидимого рояля.
Поскольку отец весьма заботился о нашем с сестрою здоровье, он поднимал нас с постелей и заставлял заниматься гимнастикой. Я это очень хорошо помню, я даже не забыл фамилию человека, который вел по радио эти передачи: Гордеев.
Галина:
Еще до войны, в Ленинграде, нас лечил известный детский врач Александр Федорович Тур. А когда он приезжал в Москву, то непременно заходил к нам домой и внимательнейшим образом осматривал и меня, и Максима. Все рекомендации, которые давал этот доктор, наши родители старались выполнять неукоснительно. Так, по совету Александра Федоровича были для нас куплены велосипеды.
Максим:
Оркестр умолк, и дирижер обернулся к нам.
— Очень хорошо, очень хорошо, — говорит отец своей обычной скороговоркой.
И репетиция Восьмой симфонии продолжается.
Это было в Ленинграде весной 1946 года. Я был еще маленьким, но отец взял меня на одну из репетиций, и я запомнил это на всю жизнь. За пультом стоял Евгений Александрович Мравинский, и я с восхищением смотрел на него, на то, как он управлялся с оркестром… И вот тогда, именно тогда я твердо решил: когда вырасту, буду дирижером.
Я часто присутствовал на репетициях, куда приглашали моего отца. Он делал очень мало замечаний. Обычно это были лишь четыре слова: «громче», «тише», «медленнее», «быстрее». Иногда он мог сказать и что-то большее, но лишь тем музыкантам, которым он доверял, в чьем мастерстве и таланте не сомневался. Если же исполнитель ему был не по душе, он мог отделаться лишь такими словами:
— Пошли дальше, пошли дальше…
Дирижер Александр Гаук:
«На репетициях Дмитрий Дмитриевич всегда спокойно (это, конечно, было внешним спокойствием) сидел в зале. Он не позволял себе никаких выкриков или нервничания, хорошо понимая, что репетиции служат для того, чтобы разучить новое произведение и ни в коем случае не являются показом. Все свои замечания он делал всегда в антракте и в самом деликатном тоне. Только в том случае, когда он находил описку (в нотах), он позволял себе подходить к пульту, терпеливо ожидая ближайшей остановки, и тихонечко указывал на ошибку. Он всегда был предельно скромен. Многому могли бы в этом отношении у него поучиться другие композиторы, которые требуют, чтобы оркестр и дирижер сразу же на первой репетиции исполняли сочинение, как на концерте»
(Сб. «Александр Васильевич Гаук», М., 1975, стр. 126). Хоровой дирижер Клавдий Птица:
«Вспоминается, как восторженно рассказывал Александр Васильевич (Гаук) о необычайном музыкальном слухе Шостаковича.
На репетиции одной из симфоний Шостаковича, в Большом зале консерватории, когда шло первое Allegro, Александр Васильевич, стоящий за пультом, оглянулся и увидел, что композитор, болезненно сморщившись, спешит к нему: „Александр Васильевич, — говорил Дмитрий Дмитриевич, — второй скрипач на третьем пульте первых скрипок сыграл вместо фа — фа-диез“.
Так оно и оказалось»
(там же, стр. 198). Максим:
В сентябре 1962 года мы с отцом были в Эдинбурге на фестивале. Я помню одну из репетиций, польский оркестр играл Восьмую симфонию. Там есть соло трубы, довольно продолжительное. И оркестрант сыграл это весьма фривольно, совсем не в том характере, что хотелось бы автору. Шостакович сидел в первом ряду и морщился. А дирижеру, наоборот, это очень понравилось, он повернулся к моему отцу и самодовольно спросил: «Добже?» И в ответ Шостакович крикнул ему, тоже по-польски: «Дуже не добже!»
Галина:
В послевоенном Комарове, то есть тогда еще в Келомяках, были широкие ровные дороги, которые строили финны, а кроме того — великое множество узеньких тропинок, они вьются между деревьями.
Во время велосипедных путешествий отец прививал нам культуру движения. Например, учил при каждом повороте показывать рукою ту сторону, куда собираешься свернуть, хотя на безлюдных и извилистых лесных дорожках это выглядело чрезмерной предосторожностью.
Максим:
Возле нашей дачи на скамейке сидит человек в поношенной и застиранной военной форме. Вид у него жалкий, он озирается и поглощает ломоть хлеба, держа его обеими руками… А я поглядываю на него с любопытством и затаенным страхом, ведь он — немец, фашист, пленный солдат германской армии.