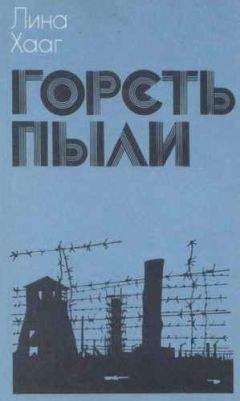Слишком много переживаний за последние годы. Пребывание в одиночке совсем меня изнурило. Я это чувствую. С каждым днем худею. Остальное делает страх. Уже несколько месяцев от тебя ни строчки. Расспрашиваю прибывших с восточного фронта раненых. Может быть, кто-нибудь знает что-либо о твоей части. Нет, они ничего не знают. Они знают только, что все идет кувырком.
Мать пишет о новых арестах дома. Спрашивали мой адрес. Неужели снова хотят меня арестовать, в четвертый раз? Больше я не выдержу. В бюстгальтер зашила половинку лезвия безопасной бритвы. На всякий случай. Но это не успокаивает. Мне страшно. Когда звонит телефон, у меня дрожат колени. Когда за моей спиной открывается дверь, замирает сердце. Меня тактично пригласят в приемную. Там будут ждать два хорошо одетых господина. Они вежливо попросят меня следовать за ними. Здесь, в госпитале, они будут вести себя более прилично. Не так развязно и нагло, как в тех случаях, когда за тобой приходят домой.
Вчера, рассматривая рентгеновские снимки, я впала в обморочное состояние. Это ощущение мне знакомо. Когда вдруг голоса окружающих доносятся, как через стеклянную стену, я уже знаю, что произойдет. Если все предметы вокруг начинают вращаться по спирали, самое время к чему-то прислониться. Вчера я почувствовала, что пол уплывает из-под ног несколько ранее обычного. «Это еще что за новости, — сказал капитан медицинской службы, — вы что, совсем скисли?»
Нет, я не хочу скиснуть. Не могу скиснуть. У меня муж и ребенок. Я буду им нужна потом, когда это безумие кончится. Не напрасно же я прошла через двадцать тюрем. Не напрасно сохраняла мужество на протяжении долгих одиннадцати лет. «Уже прошло», — сказала я.
Все проходит — слабость, мнимое обсуждение рентгеновских снимков, пошлые остроты солдат, хихиканье флиртующих сестер, этот день, всё. Все проходит. Только не страх, не тоска по Кетле, не страстное желание видеть тебя. Не эти муки. Ночь…
Разложила перед собой ваши фотографии и рассматриваю твое милое лицо. Я взяла бы его в свои руки и плакала.
Только не падать духом, сказал бы ты. Как часто ты это говорил.
Я никогда не падала духом. Я должна была всегда быть твердой. Почти всегда я была одна. Но никогда не чувствовала себя несчастной. Только мужественной. Только мужественной. Они травили нас, как собак. Они вновь и вновь нас разлучали, тебя отправляли в концлагерь, меня гоняли по тюрьмам. Редко приходилось нам бывать вместе, а когда оказывались вдвоем — разве могли мы спокойно радоваться нашему счастью? Нет. Всегда лишь преследуемые, выслеживаемые, под надзором полиции. Всегда помнить о главном: только сохранять самообладание, оставаться сильными, всегда — только не сдаваться. Мою любовь к тебе все эти семнадцать лет я носила в себе как сокровенную тайну, как дар, который никогда не могла тебе вручить.
Ах, любимый, что знаешь ты обо мне. Почему я не могу положить голову на стол и как следует нареветься. Ведь я женщина, ведь я твоя жена. Почему не могу однажды сказать: теперь все, больше нет сил.
Нет, этого не будет. Не могу себе позволить этого. Не могу обращать на себя внимание. Ведь здесь я оказалась чудом и не могу легкомысленно его утратить. Это единственный шанс на спасение. Я не могу проявить слабость.
Потому я пишу. Я должна излить свою душу, описав все страдания, пережитые за истекшие годы. Может быть, тогда легче будет все перенести. Может быть, тогда я буду тебе ближе. Может быть, тогда и ожидание не будет таким тяжким. Я ожидаю уже слишком долго. Жду одиннадцать лет. Жду с 31 января 1933 года. С того дня, когда тебя увели.
С этого все началось. Все началось с Гитлера. С захвата власти. С перелома, как они говорили. Они действительно нас ломали — душу и тело. Когда об этом сообщили по радио, я знала, что они тебя возьмут. Ты был депутатом ландтага от КПГ. На наших собраниях мы предупреждали об опасности, какую несет с собой Гитлер. И вот он у власти. Почтенный президент и маршал великой войны — до сих пор эти слова звучат у меня в ушах — уполномочил его сформировать правительство. Ожидаемое народное восстание не состоялось. Ничего не произошло. Кое-где — жидкие демонстрации. И мы прошли по улицам небольшого городка, на нас глазели, осыпали насмешками, бросали грозные взгляды. Все высыпали на улицу. Все ждали. Ждали и обыватели. Они выглядывали из окон, стояли у дверей своих домов, чувствуя себя под их защитой, в лихорадочном возбуждении толпились подле пивных и — ждали.
Их ожидания были напрасны. Ни криков, ни свистков, ни стычек, ни выстрелов, ничего. Ни крови. Они были разочарованы. Были разочарованы и мы. Мы не подметили ни одного понимающего взгляда, ни одного испуганного лица, ни тени страха перед тем, что грозно надвигается. Только мелкое, тупое любопытство обывателя да безмолвная вражда. Мы видели флажки со свастикой, коричневые рубашки, торопливо шагающие сапоги. Но нигде ни одного сжатого кулака. Вечером ты возвратился из Штутгарта. В Берлине не произошло революции, зато состоялось факельное шествие. Через рупоры громкоговорителей далеко разносились провозглашаемые на Вильгельмплатц массами людей крики «хайль». Явилось это ответом? «Хайль нашему вождю!» Мы были так сильно разочарованы, что не хотели в этом признаться самим себе. Внезапно меня охватил страх. Я быстро упаковала твой рюкзак. Я хотела, чтобы ты уехал. За границу. В безопасное место. Ты пришел в ярость.
— Бросить на произвол судьбы моих рабочих, — сказал ты, — теперь?..
— Если они тебя арестуют, ты тоже будешь вдали от них, — сказала я.
— Но не дезертиром, — закричал ты.
Ты был вне себя. В тот момент мне было все равно. Я думала только о тебе. И о себе. Конечно, и о себе, признаю. Как упрямый ребенок, я все время повторяла одно и то же: они тебя возьмут, вот увидишь, они тебя возьмут! Ах, милый, ты помнишь это?
Они пришли в пять утра. Ремни под подбородком, револьверы, резиновые дубинки. Рванули дверцы шкафа, швырнули на пол одежду, перевернули все на письменном столе и в ящиках. Я знаю, что такое политическая борьба, и не один раз подвергалась домашнему обыску. Но это нечто другое. Они взбираются на стулья, сбрасывают со шкафов на пол коробки, срывают картины, простукивают стены. Все очень быстро, грубо, бесцеремонно, с отвратительным рвением и явным удовольствием. Они ничего не ищут, они только бесчинствуют, топчут сапогами брошенное на пол чистое белье, с циничным любопытством читают наши письма, заставляют меня, дрожащую от возбуждения и холода, стоять в одной сорочке у кроватки Кетле. Не зная, что еще предпринять, они бегают бессмысленно взад и вперед, шушукаются, ухмыляются, изрыгают проклятия, наслаждаются нашей беспомощностью. Причем мы для них не чужие, мы знаем их, они знают нас, это взрослые люди, сограждане, соседи, если хотите, отцы семейства, добропорядочные обыватели. Мы не сделали им ничего худого, тем не менее они смотрят на нас с ненавистью, револьверы наготове, вынуты из кобуры.