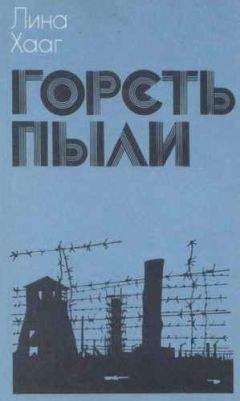Этого я не могу постичь. Еще меньше я понимаю происходящее, когда вдруг вижу тебя в пальто.
— Что случилось? — спрашиваю я испуганно.
— Ничего особенного, — говоришь ты и пожимаешь плечами.
— Марш, марш! — командует один из этих людей.
— Ты ведь депутат! — восклицаю я.
— Депутат, — смеется парень, — слыхали? — И начинает кричать: — Вы коммунисты, — орет он во весь голос, — но с вашим сбродом теперь будет покончено!
Кетле в страхе простирает к тебе руки и хочет тебя удержать. Неужели они этого не видят? Нет, они этого не видят. Они говорят, чтобы ты следовал с ними.
Прощай! Мы не можем пожать друг другу руки. Между мной и тобой стоит этот субъект. Я могу лишь кивнуть. В горле комок. Все плывет перед глазами. Хочу что-то крикнуть тебе вслед, но входная дверь уже захлопнулась.
Из окна я вижу, как вы идете по улице. Ты впереди. Хочешь обернуться и еще раз мне кивнуть. И тогда парень хватает тебя сзади. Ты обороняешься. Они начинают тебя бить.
На какое-то мгновение, кажется, все остановилось. Я отрываю от окна плачущего ребенка.
Так вот как это выглядит, думаю я. Хорошо, думаю я почти с удовлетворением. Очень хорошо. Долго народ этого не потерпит.
Через четыре недели арестовали меня.
Меня арестовали, так как подожгли рейхстаг. Я даже не знала, что он горит. Произошло это 28 февраля.
На этот раз это были внешне приличные чиновники центрального управления уголовной полиции, явно дрожащие за свое место. Только четыре недели назад они арестовывали буянивших штурмовиков, теперь же они выбрасывают кверху руку и кричат: «Хайль Гитлер!»
— Вы фрау Хааг?
Перед дверью двое в непромокаемых плащах, мельком замечаю их серые шляпы. На одной из них за ленточкой торчит голубоватое перышко, оно бросается в глаза, так как, по-видимому, должно производить впечатление некоей лихости и отваги. Воспринимается же как глумление и издевательство. Прежде чем я могу ответить, между дверью и порогом протискивается несколько старомодный, однако до блеска начищенный ботинок.
— Только без глупостей, — слышу холодный, неприятный голос.
Только теперь всматриваюсь в их лица. Разве это люди? Усики с проседью выглядят как наклеенные. Их назначение, теперь я это ясно вижу, — прикрыть жесткие линии рта. Нарочито приветливое добродушие неподвижных желтоватых рож — только маска. Она скрывает настоящее лицо — злое, подстерегающее. Меня знобит. Что это за люди? Они выглядят безобидными обывателями, на самом же деле это безжалостные палачи. Одеты как почтенные граждане, а в действительности заняты тем, что творят подлости. Они не знают, что такое честный, добросовестный труд, они заняты делом низким и гнусным. Они — ничто и тем не менее имеют над тобой власть. Так как сами они лишены совести, они глумятся над совестью твоей. Собственная беспринципность позволяет им преследовать людей принципиальных и с одинаковым усердием служить всем режимам, вчера республике, сегодня Гитлеру. У них нет сердца, только занимаемая должность. Им не нужно сердце, им нужно только чужое горе. Хаос. Голод. Отчаяние. Нищета. Это поле их деятельности. За тридцать сребреников, получаемых первого числа каждого месяца, они держат нос по ветру, преследуя всех, кого требуют от них в данный момент преследовать, вчера — властителей сегодняшнего дня, сегодня — владык вчерашнего. И всегда, во всех случаях — нас. Народ.
Они забирают меня потому, что горит рейхстаг. Рейхстаг горит, так как им нужен повод, чтобы разгромить КПГ. Я член КПГ. Поэтому они забирают меня. Я не совершила никакого преступления, но они увозят меня как преступницу. Они видят, что обед на столе, что у меня ребенок и я не могу так все сразу бросить, встать и уйти. Тем не менее они травят меня. Ребенка отдают соседке. Снимают с вешалки и бросают мне пальто. «Гоп-гоп!» — говорят они. Они торопятся. Им надо показать новым господам, что на них можно положиться. Они должны заполнить тюрьмы. Всегда «гоп-гоп». «Бескровнейшая» революция всех времен требует своих жертв. А день такой короткий.
Когда мы спускаемся вниз по лестнице, слышу, как повсюду в доме открываются двери, очень тихо и осторожно, но я это слышу. На улице у меня бегают по спине мурашки. Спиной чувствую на себе чужие взгляды. Изо всех окон смотрят мне вслед. Я не вижу этого, я это знаю. Улица полна народа, как всегда в таких случаях. Идут за молоком или возвращаются с рынка. Наверное, так и должно быть. Одни останавливаются и глазеют, разинув рот, наслаждаясь увиденным. Другие испуганно отводят взор. Для детей — зрелище, когда они видят, как мелкий служащий Билер жадными руками хватает твой мотоцикл. Разумеется, ему известно, что он принадлежит тебе. Знает это и полиция. Тем не менее она оставляет ему мотоцикл в награду за оказанные им услуги.
Меня доставляют в земельную тюрьму Готтесцелль. Да, да, Готтесцелль[1].
Ворота, коридоры, решетки, серые лица, скользящие неслышно шаги. Захлопнута тяжелая дверь. Я в плену. Не знаю, за что и как надолго. Камера маленькая и голая, нет, это не камера господа бога. Невыносимая вонь параши. День кажется бесконечным. А меня мучает все та же мысль: что будет с тобой, с Кетле, что будет вообще? Воспоминания вызывают слезы на глазах. Теперешнее бесконечно тяжелое одиночество озарено светом непродолжительного счастья нашей скромной трудной жизни, и воспоминания эти сладостны и мучительны.
Нам приходилось нелегко, но мы принадлежали друг другу. У нас был наш добрый маленький мирок. Ребенок. Уютная кухонька со столиком в углу, кушеткой у стены. Вечера. Книги. Мы могли уйти и возвратиться домой. Могли в течение дня радоваться предстоящему вечеру. После еды беседовать, читать, играть с Кетле. Выключать по желанию свет. Ночью слышать дыхание друг друга. Мы были не одни. Мы были вместе. Это было счастье. Не так ли? Сколько времени прошло с тех пор? Четыре недели? Мне кажется- годы.
Хорошо, что меня через некоторое время из одиночки переводят в общую камеру, где несколько женщин находятся под так называемым предварительным арестом. Исключительно политические и взяты по недоразумению. Сначала взаимное недоверие, у меня — более стойкое. Здесь есть лица, которые мне не нравятся. Шумно, царит напряженная атмосфера. У людей, очутившихся вместе в небольшом помещении, противоречия и контрасты проявляются еще более резко, чем там, за тюремными стенами. Совместное страдание не всегда объединяет.
Нам разрешено получать газету. Из нее я узнаю, что горел рейхстаг и в связи с этим Геринг осуществил акцию против коммунистической партии. Теперь понятно, почему я здесь. Процесс о поджоге рейхстага предстает во всей своей зловещей смехотворности. Женщины оживленно его обсуждают. Я проявляю сдержанность. Я слышала, что в определенной ситуации за донос на соседа по камере можно купить себе свободу. Сильное искушение для слабохарактерных. Правда, у многих арестованы и мужья, а дома ждут малые дети. Не дома, разумеется. Где-нибудь.